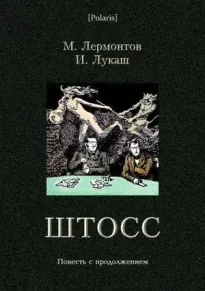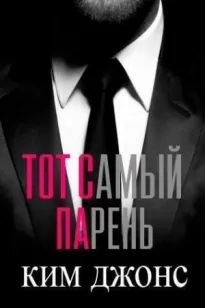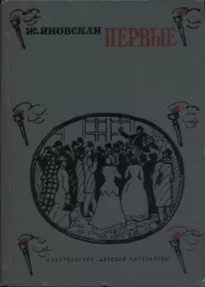Пушкин и компания. Новые беседы любителей русского слова

- Автор: Борис Парамонов
- Жанр: Публицистика / Литературоведение
- Дата выхода: 2022
Читать книгу "Пушкин и компания. Новые беседы любителей русского слова"
Герой романа – Митька Векшин, комиссар полка в Гражданскую войну, во время нэпа ставший уголовником, вот этим самым вором. Тут увидели едва ли не главную тогдашнюю тему: срыв революции, за что, мол, боролись? Как писал поэт: «Как я стану твоим поэтом, коммунизма племя, если крашено рыжим цветом, а не красным время?» Мне, однако, тут у Леонова другая аллегория видится: можно понять выбор героя так, что не революция с осей сместилась, а ее герой в мирной жизни закономерно обнажился, лишенный приобретенной воинской мотивировки. То есть сама революция делалась ворами. Один нынешний исследователь Леонова справедливо предложил расширить семантику слова «вор»: это у Даля не только совершающий кражу, но вообще разбойник, всякий нарушитель закона. Революция, созданный ею строй – воровское дело, криминал. Этому, однако, противоречит то обстоятельство, что Векшин – вроде бы положительный герой (как почти всегда главный герой). Но он остается все же неясным. Вообще, не Раскольников ли он, окончательно институализировавшийся в криминалитете, если вспомнить опять же главного леоновского учителя Достоевского?
В романе хорошо прописан второй план, массовые сцены, всякого рода сборища, переходящие в скандал, или задушевные беседы на чердаках – вот уже прямой Достоевский. Или герой второго плана Манюкин, из бывших: это генерал Иволгин из «Идиота», опять же с рыданьицем. И роковая женщина есть на манер Настасьи Филипповны – Манька Вьюга – мальчишеская любовь Митьки, ставшая любовницей бандита Аггея. Но самое интересное в романе – присутствие в нем писателя Фирсова, человека в клетчатом демисезоне, как позднее у булгаковского Коровьева: он собирает материал о воровском подполье для своего романа – и получается, что «Вор» им и написан. Правда, с нюансом: его книга выходит из печати, когда леоновский роман еще не кончен. И тут – полное внимание: приводятся разгромные рецензии на фирсовский роман. Вам это, Иван Никитич, ничего не напоминает?
И. Т.: А как же! «Дар» Набокова.
Б. П.: Причем, что еще интересно: самые названия совпадают, сходно звучат: вор, дар. Набоков не мог не обратить внимания на роман Леонова – его чуть ли не до небес расхваливали в эмиграции. Особенно отличался Георгий Адамович, возложивший на Леонова великие надежды.
И. Т.: Борис Михайлович, но ведь можно другой образец такого построения припомнить, и к Набокову куда ближе: «Фальшивомонетчики» Андре Жида, где автор романа – среди его героев. Может быть, на него и сам Леонов ориентировался.
Б. П.: Трудно сказать. И был ли к 1926-му переведен роман Жида на русский? Но я тогда еще на одну подробность укажу. В числе первых опытов Леонова – рассказ «Деревянная королева». Королева, натурально, шахматная, ферзь. И она вовлечена в жизнь людей, герой в нее влюблен. Фантазия о шахматах, шахматы, подменяющие жизнь, – это не «Защита» ли «Лужина»? Причем есть один важный психологический нюанс: Набоков всю жизнь не мог спокойно слышать имени Леонова. Это же его фирменный стиль: ругался на тех, у кого заимствовал, от кого зависел, – отсюда пресловутая его ненависть к Достоевскому и Фрейду.
И. Т.: Борис Михайлович, а вы сами как относитесь к этому сочинению Леонова, к «Вору»? Можете вы сказать, что это лучшая его вещь?
Б. П.: Не могу сформулировать четко своего отношения – Леонов меня запутал. Он дважды переписывал «Вора», и я так и не пойму, в какой редакции его следует читать и какую я сам читал. Мне прежде всего неясен сам герой, в чем его символика, тут все двоится. Но вот о чем нельзя не сказать. Этот роман в своей «Литературной коллекции» хвалил Солженицын, назвал его большой удачей. И он интересную работу проделал: выписал несколько фраз из первого издания, выброшенных Леоновым из последующих.
Что Леонову уж точно поправить надо было в первой редакции «Вора», это Николку Заварихина – молодого нэпмана, только что приехавшего из деревни и активно строящего мелкобуржуазную карьеру. Это неверный был диагноз, неверный образ: гужеваться таким Николкам оставалось года два. Такую же ошибку, между прочим, сделал Константин Федин в повести «Трансвааль», изображая прущего наверх деревенского богатея.
И. Т.: Динамичная советская жизнь обгоняла писательскую фантазию.
Б. П.: И не говорите. Ну и еще, коли у нас речь коснулась деревни. После «Вора» Леонов написал цикл рассказов «Необыкновенные истории о мужиках». Мрачнейшее сочинение о какой-то нечеловеческой жизни и скотоподобных людях. В одном рассказе «Приключение с Иваном» мужики поймали конокрада и, как положено, собираются его убить. При этом конокрад – кузнец. И тогда один из мужиков говорит: что ж мы единственного кузнеца решать будем, он нам человек нужный, а вот плотников у нас четверо. И тогда они убивают плотника – вот этого глухого Ивана. Солженицын в том отзыве о «Воре» написал об этих леоновских рассказах: звероподобие мужиков – не к тому ли, что жалеть их в коллективизацию незачем?
И если уж говорить о социологии Леонова, то деревня здесь ни при чем, даже несколько удивляет, что он «Барсуков» написал. Леонов из крепких городских, причем столичных (Москва) мещан, его дед был торговцем в Зарядье. Причем мещан уже окультуривавшихся: отец Леонова был поэтомсуриковцем, потом в архангельской ссылке издавал газету. Сам Леонов учился в московской гимназии, окончил ее с серебряной медалью. И был он сильно начитан: каких только культурно-исторических реалий в его книгах нет.
Ну и вот, с «Вором» и рассказами о мужиках двадцатые годы кончились и начались тридцатые. Пора было Леонову, что называется, становиться на советскую платформу, менять темы. Коллективизация, естественно, им никак не затронута, а вот об индустриализации пришлось писать. Прежде всего это роман «Соть» тридцатого года. Соть – это река, на которой большевики строят бумажный комбинат. Мужики местные этого понять не могут и выдумывают нового беса, названного ими бумагой.
И. Т.: Вроде Бурыги.
Б. П.: Точно! Еще одно появление мужиков в «Соти»: мужик построил новый дом, а другой ему на новоселье принес клопа в бумажке: какой же дом без клопов? А еще в романе монашеский – или монастырский, не знаю, как точней, – скит, и монахи подробно описываются – еще один заслон против строительства, неминуемо преодолеваемый. Среди монахов – брат Виссарион, прячущийся в скиту белогвардеец. Но он ловко перекрашивается и становится культработником на строительстве. И ведет с молодым инженером Сусанной интересные разговоры апокалиптического характера – с этих пор любимый леоновский сюжет. Ну и большевик Увадьев, натурально, начальник строительства. Оживлен Увадьев его матерью – передовой работницей транспорта: она в Москве трамвайные стрелки переставляет, сидя на стуле среди рельсов. Так сказать, кухарка, управляющая государством: вот такими темными и ядовитейшими в глубине намеками характерен стиль Леонова, в этом его тайная близость к Щедрину. Река Соть, понятное дело, однажды разыгралась, вышла из берегов и угрожает строительству. С прорывом, несомненно, справляются: это кульминация всех тогдашних индустриальных романов.
Что сказать о романе «Соть»? То же, что и обо всех последующих романах Леонова: это всегда можно читать, текст добротный, если только вам сама леоновская манера нравится (мне – нравится). Могу повторить вслед за Адамовичем: надежда на Леонова не исчезает, но с каждым разом приходится о нем сожалеть, видя, что не только текст страдает, но и сам автор, принуждаемый к чужим для него темам.
И. Т.: У Леонова еще один такого рода роман есть – «Скутаревский».
Б. П.: Да, это о старом ученом, который, сами понимаете, включается в советское строительство. Все то же самое. Но вот что хуже: сын Скутаревского, тоже инженер, оказывается вредителем. Это не размазано, а вскользь упомянуто, но тем более горько: уже прямой лжи Леонов сподобился.
Но в тех же тридцатых Леонову удалось написать еще один, и, как я считаю, выдающийся, роман. Мой любимый. Это «Дорога на Океан» – абсолютная удача.
И. Т.: Эту книгу как-то не очень и вспоминают, говоря о Леонове, вроде бы в его канон она не входит.
Б. П.: И очень хорошо, что не замечают. Пригляделись бы – не избежал бы Леонов неприятностей, и почище тех, что постигли его пьесу «Метель» в сороковом году (специальное постановление ЦК было с осуждением).
И. Т.: А что было с этой пьесой?
Б. П.: Там один советский чин убегает за границу, а брат его, эмигрант, в СССР вернулся. Вот и весь криминал. Не хотели заграничную тему обсуждать в таких поворотах. Мне эта пьеса интересной не показалась, как вообще вся леоновская драматургия, о которой поэтому и говорить не буду. Возвращаемся на нашу дорогу – «Дорогу на Океан». Океан – с прописной буквы. Это не водный простор, а некая метафора светлого будущего. Понятное дело – коммунизма.
И вот тут Леонов замечательно сыграл. Герой романа – большевик Курилов, назначенный начальником политотдела Волго-Ревизанской железной дороги, как раз до океана доходящей. И этот персонаж, вроде бы типовой образ большевика-строителя, сделан смертельно больным, он только и делает в романе, что умирает. И никакого совстроительства мы в романе не видим. Но Леонов чрезвычайно изобретательно бросил идеологическую кость: часть романа перенес в воображаемое будущее, описывая некую межконтинентальную войну за окончательную победу коммунизма. Чистое фэнтези, вроде «Звездных войн». А в реале, в настоящем времени, Курилов умирает. Заодно и прошлое вспомянуто, история строительства этой Волго-Ревизанской дороги, предпринятого компанией неких энергичных покойников. Вот Курилов, глядящий в будущее, с ними и уравнивается. И Океан (с прописной буквы) как образ будущего оказывается не коммунизмом, а смертью.
Я этот роман открыл в стародавние времена, подростком, еще чуть ли не при Сталине, и был поражен леоновским искусством. И потому никогда не был склонен ставить Леонова в общий ряд совписов-псевдоклассиков. Не верил я в советскую лояльность Леонова. То есть лояльность, видимая, словесная солидарность, конечно, была, и о Сталине статейки выдавал.
И. Т.: Борис Михайлович, простите, перебью: в одной такой статейке Леонов призывал начать новое летосчисление со дня рождения Сталина. Звучит нарочитой пародией соответствующих славословий.
Б. П.: Да как можно было такому поверить, читая в «Дороге на Океан» вот такой текст (преуспевающий и при соввласти хирург покупает антикварные часы у одного бывшего человека, а тот произносит следующий монолог):
…мы договоримся, пики-козыри. Вы не ботаник? Жаль, я отдал бы эти орхидейки бесплатно: некуда приладить. Я ведь, как в затворе, не выхожу. Ботанических садов в России не осталось: повырубили. Да и что от нее осталось, от матушки! Василь Блаженный на площади да я вот, срамной… <…> А когда-то это растение цвело у меня, господин химик… онцидиум кавендишианум, слово-то какое, а? За одно слово рублей двадцать можно взять… а ныне какие-то цветные паучки под листьями развелись, с предприимчивыми такими лицами. Сидит, подлец, и паштет из мух крутит… Гляньте разок на память, да гляньте же, ведь бесплатно! <…> Все сгибло, туда и дорога. Библиотеку крысы сожрали… вот и продал Эмиля-то от греха. При этом заметьте, господин ботаник, что и крысы предпочитали книги довоенные, идеалистического содержания. Ваших Лафаргов они не жрут: клей не тот-с!.. Да и кому это нужно.