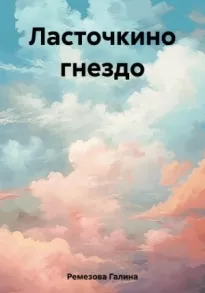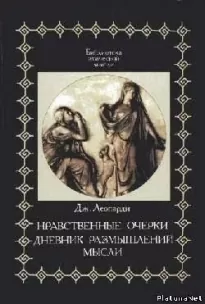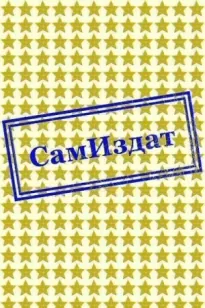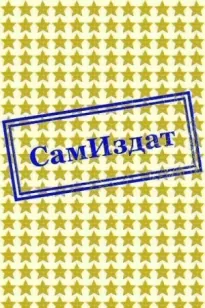Живущие во льдах
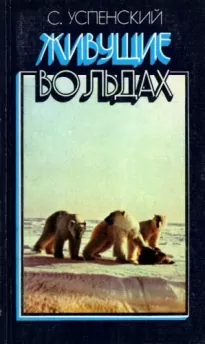
- Автор: Савва Успенский
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 1983
- Цикл: Рассказы о природе
Читать книгу "Живущие во льдах"
В равнинной тундре трудно найти возвышения или укрытия, необходимые для устройства гнезд, и такие удобства многим пернатым тоже предоставляет человек. Навигационные знаки, вышки, гурии, несомненно, воспринимаются птицами как скалы или какие-нибудь другие природные образования. На них охотно гнездятся и кречеты, и сапсаны, и мохноногие канюки. В городах на севере Норвегии можно видеть гнездящихся на карнизах домов чаек-моевок — типичных обитателей птичьих базаров.
Именно животные-«посетители» в первую очередь и связывают свою судьбу с человеком. В каждом поселке в Арктике, в каждом одиночном доме здесь гнездятся пуночки. И полярники не случайно называют их арктическими воробьями. Еще стоят трескучие морозы, в окрестной тундре нет и намека на проталины, а звонкая, незатейливая песенка жизнерадостных птах уже несется откуда-нибудь с крыши или с кучи угля. Сам певец в это время — сущий невидимка: на фоне белесого неба мелькают, словно сами по себе, лишь черные концы его крыльев (остальное оперение пуночки почти чисто-белое). В естественных условиях пуночки используют для устройства гнезд любые укрытия — расщелины в скалах, кучи камней, выброшенные морем бревна, даже норки леммингов, на какой бы высоте они ни находились. Столь же нетребовательны птицы при выборе укрытия для гнезд и тогда, когда они селятся вблизи человека. С равным успехом пуночки используют вентиляционные отверстия в фундаменте и застрехи под наличниками окон, пустоты в каменной кладке стен, груды металлического лома, поленницы дров. На чердаке нашего дома на Новой Земле пара пуночек из года в год гнездилась в старом валенке, который по этой причине не выбрасывали при уборках.
В антропогенных ландшафтах более южных районов (на юге Арктики и в Субарктике) почти так же обычны из воробьиных птиц белые трясогузки и каменки.
Белая трясогузка занимает в естественных условиях любые укрытия, лишь бы они располагались невдалеке от воды — от берега реки, озера или моря. Когда она гнездится в человеческих сооружениях, ее связи с водой и водоемами проявляются гораздо слабее, а использует она здесь для устройства гнезд самые разнообразные ниши и углубления — в фундаментах, на стенах, чердаках. Довольно часто трясогузки селятся в необитаемых летом домах, конечно, если они находят лаз вовнутрь. А однажды на побережье Югорского полуострова мне пришлось увидеть их гнездо в жилой рыбацкой избе. Видимо, птицы гнездились здесь и в прошлом году, когда изба пустовала. Гнездо располагалось на полке у стола, всего в полуметре от голов сидящих людей; вылетали трясогузки наружу через раскрытую форточку. Когда я попал сюда, в гнезде были уже довольно крупные птенцы. А пока я гостил у рыбаков, снаружи похолодало, пошел снег. Мы было встревожились за судьбу пернатых жильцов, но все обошлось благополучно: день-два они вообще не летали на «улицу», а ловили мух и для себя и для птенцов в самом жилье. Вот и еще одно преимущество тесного соседства с человеком!
Каменка ростом меньше воробья. В неярком, но контрастном ее оперении сочетаются белый, серый и черный цвета. В естественных условиях каменки занимают укрытия, находящиеся на уровне земли: трещины скал, норы грызунов, пустоты под камнями или бревнами. Поселяясь в антропогенных ландшафтах, они гнездятся в. пустотах и углублениях искусственных сооружений, но уже вне зависимости от высоты, на которой эти пустоты расположены: гнезда их можно найти здесь и в трещинах фундаментов, и за наличниками окон, и на крышах под листами шифера.
Уже говорилось, что среди млекопитающих на Крайнем Севере СССР наиболее обычные обитатели человеческих поселений — узкочерепные и красные полевки. Они селятся в жилых домах, на складах, в амбарах, часто заменяя здесь домовых мышей; в поселках сельского типа они прокладывают густую сеть ходов в земляных завалинах.
Все звери и птицы, о которых только что шла речь, были как бы «вобраны» человеком из числа исконных местных обитателей (исследователи так и называют их — «вобранными»). Если присмотреться к ним внимательнее, окажется также, что эти виды наиболее неприхотливы в выборе кормов и убежищ. Некоторые из них нашли в антропогенных ландшафтах настолько благоприятные для своей жизни условия, что селятся здесь с гораздо большей плотностью, чем в «дикой» природе, и даже интенсивнее размножаются. Такова, например, красная полевка. Местами в Якутии зверьки наиболее многочисленны именно в жилых домах, складах, амбарах. А приносят потомство они в тепле не только летом, как их «дикие» сородичи, но и зимой. Или вот куличок — белохвостый песочник. Он относится к числу наиболее обычных тундровых пернатых (добавлю, что его без всякой натяжки можно считать и одним из лучших тундровых певцов). Но наиболее многочислен этот вид на гнездовье в ближайших окрестностях поселков; он селится здесь с плотностью, превышающей «естественную» в пять, а то и в десять раз. Что привлекает его сюда, не очень-то ясно, но вероятнее всего — более сытая жизнь.
Лишь благодаря человеку некоторые животные смогли продвинуться далеко к северу. Хороший пример тому — чечетка. Исконные местообитания этой небольшой серой птички с красной шапочкой на голове и черным пятном на горле — заросли кустарников. А там, где естественных кустарников уже нет, чечетки используют для поселения их искусственные «заменители». В окрестностях поселка Тикси их гнезда находили в мотках брошенной проволоки и стального троса. А на севере Югорского полуострова мне встретилось гнездо чечеток, расположенное в срубе нежилого дома, в углу между верхними венцами бревен. Птицы, наверное, и здесь усмотрели какое-то сходство с кустом…
В окрестностях поселка Диксон, который расположен уже в открытой тундре, я однажды неожиданно для себя увидел нескольких варакушек и даже дроздов-белобровиков. Судя по их поведению, у них тут были гнезда. Но ведь варакушки обычно строят гнезда в густых, хотя и не обязательно высоких кустарниках, а дроздам-белобровикам для выведения птенцов необходимы кусты высотой по крайней мере в рост человека! Как же птицы выходят из положения?
Несколько дней я потратил на то, чтобы разрешить эту загадку. И вот первая находка. Небольшая бурая птичка с приметным рыжим пятном у основания хвоста (это самка варакушки, у самца горло и грудь ярко-голубые, и он относится к числу самых нарядных пернатых не только на Севере, но и вообще в нашей стране) вылетела из большой кучи стружек, то ли сложенных, то ли брошенных у склада. Среди этой кучи и находилось ее гнездо с шестью недавно появившимися на свет птенцами. Дальше искать было уже легче. Следующее гнездо, и тоже с птенцами, обнаружилось в другой куче стружек, а еще несколько гнезд — среди кип выгруженного с парохода сена. И в стружках, и в сене все-таки можно усмотреть отдаленное сходство с чащей кустарников. Дрозды поразили меня гораздо сильнее. Одно из их гнезд я нашел в груде пустых ящиков, другое — на ступеньке приставленной к стене лестницы, третье — на бревенчатом основании маяка. Что общего здесь с кустами? На этот вопрос могли бы ответить только сами птицы…
Продвигаясь на север, человек невольно привел за собой из более южных районов и своих обычных «захребетников» — домового и полевого воробьев, домовую мышь, серую крысу.
Домовый воробей нуждается на Севере в человеческой опеке гораздо сильнее, чем в других местах, и может существовать здесь лишь в том случае, если люди полностью обеспечивают его кормами. Кроме того, необходимые укрытия для гнезд он находит лишь в постройках определенного типа и наиболее охотно заселяет рубленые русские дома. Поэтому расселение его на территории нашей страны к северу и к востоку было тесно связано с развитием там земледелия, возникновением русских поселений и появлением лошадей. По образному выражению известного русского ученого А. Ф. Миддендорфа, в Сибири «воробей шел вслед за сохой». А ханты называли домового воробья не менее метко — «птичкой, сидящей на углу русской избы».
Северная граница распространения этого вида сейчас в общем совпадает с северной границей земледелия. У обитающих здесь птиц выработались интересные приспособительные особенности. В отличие от распространенных южнее северные воробьи совершают регулярные сезонные перелеты. Например, они улетают на зиму из северных частей Архангельской области, с низовьев Печоры, Таза, Оби, Енисея, из Якутска. С другой стороны, известны случаи, когда по мере приспособления к новым условиям перелетные воробьи вновь становились оседлыми. Так, в Березове в первые годы после своего появления птицы на зиму улетали, но затем стали жить там круглый год.
Среди зимующих на Крайнем Севере домовых воробьев явно преобладают самцы (как и у большинства других птиц, они легче мирятся с низкими температурами, чем самки). Эти воробьи отличаются от распространенных южнее большим весом, поскольку в организме у них накапливается большее количество жира, играющего важную роль в теплоизоляции, и, следовательно, лучше защищены от холода.
Однако, даже значительно изменив свой образ жизни, домовые воробьи оказываются недостаточно приспособленными к обитанию во многих районах Крайнего Севера. В холодные зимы они иногда полностью вымирали в Салехарде, Туруханске, Якутске и в других северных городах и поселках. Плотность обитания вида у северных пределов его распространения всюду оказывается очень невысокой. Например, в Воркуте в 1950 году гнездилось не более пятидесяти пар воробьев. Они зимовали в городской котельной, где большее количество птиц, видимо, и не могло поместиться.
Полевой воробей не смог распространиться к северу так же далеко, как воробей домовый, но и он (хотя в других местах это вполне оседлая птица) на северном пределе своего обитания совершает регулярные сезонные перелеты. Городская ласточка-воронок распространена к северу вплоть до низовьев Таза, Енисея, Оленёка, Колымы. Так же как и домовый воробей, она, очевидно, распространялась здесь вслед за русскими переселенцами, поскольку может гнездиться только в домах русского типа. Якутские юрты, не имеющие коньков и наличников на окнах, а равно и якутские открытые сеновалы для поселения птиц непригодны. Места для постройки гнезд ласточка может находить и гораздо севернее современной границы своего обитания, но дальнейшему ее продвижению на север, надо полагать, также препятствует короткое и суровое лето. Например, в низовьях Колымы птицы уже едва успевают вырастить за лето птенцов и улетают отсюда очень дружно, тотчас же после вылета из гнезд молодых.
А вот домовая мышь поселилась на севере и особенно на северо-востоке СССР относительно недавно, и до сих пор область ее распространения продолжает расширяться. В 1843 году Миддендорф считал наиболее северной точкой ее обитания на Енисее Туруханск, где мыши, однако, были тогда еще очень редки. А в 20-х годах нашего века они уже жили здесь в большом количестве. Сейчас домовые мыши обычны во всех приенисейских поселках вплоть до Диксона. В последние десятилетия этот вид вообще широко расселился в Восточной Сибири и во многих местах вышел на побережья Северного Ледовитого океана. Известно, например, что в городе Анадыре и в поселках Олюторского района, где мыши теперь обычны, их не было еще в начале 30-х годов; примерно в 1960 году мыши появились и в низовьях Лены, на острове Тит-Ары и, возможно, в то же время в поселке Тикси.