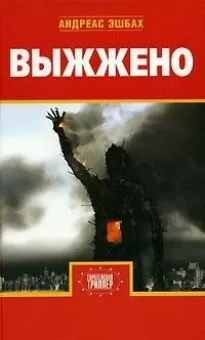Прожитое и пережитое. Родинка

- Автор: Лу Андреас-Саломе
- Жанр: Биографии и Мемуары
- Дата выхода: 2002
Читать книгу "Прожитое и пережитое. Родинка"
Ах, как плохо еще знают себя люди! Разве мы не тени мифов, разве не призрачны наши решения об окончательном спасении или окончательной гибели мира?
Почудилось ли мне это в одуряющей гуще теплой, блеклой, бестелесной мошкары вокруг меня и надо мной или же это Виталий оттолкнул меня от себя — в беспамятстве, с силой сдавив и отведя вниз мои руки, вынужденные покориться? Я ничего больше не помню.
Когда я снова обрела способность думать, то обнаружила, что я стою на коленях в поле.
Когда я теперь вспоминаю о случившемся, мне кажется, что я давно знала обо всем лучше, чем решалась себе признаться. Разве могла я сомневаться в этом — совсем недавно, полдничая с обоими в «гнезде»?
Мы сидели под навесом, Ксения собственноручно вносила блюда. Входя и выходя, она что-то пела про себя; теперь она напевает чаще, но говорит меньше, чем обычно; для того, что сейчас в ней происходит, это более естественный язык.
Немногословность Виталия она оставляла без внимания. Ксения — человек весьма проницательный, она не любит теряться в догадках и ломать себе голову над тайнами человеческого характера. Разумеется, ей никогда и в голову не приходило загонять Виталия вопросами в угол. Должно быть, это умение оставлять его в покое и понравилось ему в ней в первую очередь.
В разгар трапезы она вдруг с изменившимся лицом поднялась со стула, и Виталий испуганно вздрогнул. Не от тревога за нее, лицо его омрачила сердитая досада — на себя, на свой испуг, он словно чувствовал, что за ним наблюдают.
Ксения ушла в комнату; поскольку она не вернулась, мы, кончив есть, пошли к ней.
Когда мы вошли, она, лежа на широкой низкой кровати, встретила нас смехом. Растянувшись во всю длину и подложив руки под голову, она смеялась.
— Виталий, бедненький мой! Я вижу, ты тоже стал подбашмачником! Бегаешь за женой: а вдруг ей стало плохо, твоей драгоценной? Может, ей каша не пошла впрок, или красный свекольный суп, или, в конце концов, капуста? Послушай, не омрачай свою молодую жизнь такими пустяками. Сейчас я пойду и съем эту гадость, вот увидишь. Я ведь уже не такая глупая, как вначале, и не трусиха; мне весело.
Похоже, он впервые увидел, как она учится преодолевать себя, как привыкает к своему новому счастливому положению. Но то, с какой естественностью и уверенностью она делала это перед мужем, стоявшим в ногах кровати, тоже, должно быть, происходило впервые.
Отчего у меня не хватило мужества посмотреть на него, стоявшего около кровати и высмеиваемого женой? Отчего я упорно глядела только на нее?
Я глядела на побледневшее молодое лицо, выражавшее новую свободу, но и готовность подчиняться, какой не было прежде. В этом лице читалось то, что вложил в нее Виталий и что обретало законченные черты помимо его знания и желания. Обретало, медленно достигая совершенства, как и все, что происходило и вершилось в Ксении. То, что уже никто не мог остановить, даже он сам.
Даже сам Виталий, которому она однажды сказала, имея в виду Димитрия и Татьяну: «Когда унижают несправедливостью — этого никогда не исправить».
Не я, а Хедвиг, едва начавшая поправляться, вспомнила о том, что мне надо готовиться к отъезду; она велела принести мой чемодан и, стоя перед ним на коленях, тратит много сил и времени, чтобы преодолеть диспропорцию между теми вещами, которые я привезла, и теми, которые надо взять с собой; при этом на самый низ она укладывает то, что на таможне могли бы обложить пошлиной, — вышивки и резьбу по дереву деревенских умельцев. Нет, это не доведенная до крайности любовь к порядку, тут проявляется лучшее в ней — ее прежняя готовность мужественно идти навстречу будущему, думать о нем. Тут сказывается еще и влияние Виталия, которое она когда-то испытала. Вот только относительно самого Виталия она заблуждалась. Но именно она, хотя и по ложному поводу; переживает, причем уже давно, из-за своего отдаления от Виталия. Чтобы рухнуло здание ее вновь обретенного здесь счастья, не надо было никакой катастрофы; оно разрушалось втихомолку; словно разъедаемый плесенью дом.
Я не могла удержаться и с горьким укором дала понять бабушке, какие сплетни о Виталии, какие ложные подозрения довели Хедвиг до ее нынешнего состояния, до ее, канона выражается, «рассеянного настроения». Ведь она ежедневно соприкасалась с бабушкой по хозяйственным вопросам. Бабушка никак не опровергла мое подозрение.
— Твоя Вига горюет зря, это правда, — согласилась она. — Но есть и другая правда, и мне хотелось бы, чтобы тут не было ошибки ни с моей, ни с ее стороны: какое-то время я надеялась, что знаю, чего она боится. Да, какое-то время. Почему ты смотришь на меня с таким возмущением — или это мне только кажется? Неужели ты не в состоянии понять, как можно надеяться на греховное? Но послушай меня, милая: мать, которая хочет предохранить от порчи, не пренебрегает ничем; а всеведущему Богу и не нужно пренебрегать; он ведь и самые опасные вещи умеет обернуть себе на пользу, точнее: приносить пользу нам. А значит, и соблазн красотой, и слабость, вызванную опьянением, которые — не будь Бога — увлекли бы человека в ад. Конечно, не он, не сын должен вымаливать себе то, что его мать осмеливается просить у Бога. Конечно, помыслы мужчин всегда греховны — но заступничество Бога остается благодатью на все времена.
Я записываю эти слова и хочу иметь их перед глазами, чтобы самой оправдаться перед собой: ибо, когда она их произносила, мне показалось, что сквозь неразрушимо чистые линии ее лица проступает нечто колдовское. Не только о легкомыслии, которое она без колебаний приписала Виталию, убедительно говорила мне ее собственная жизнь. Легкомыслие, о котором у нее лично остались одни воспоминания, силой ее суеверия превращало всякую любовную связь в отвратительный старческий союз. Неужели ее тонкий ум, которым она слишком долго злоупотребляла, в наказание за это теперь разрушается?
Надо было видеть бабушку, с головой погруженную в свое суеверное, химерическое существование. Когда я не остаюсь с Хедвиг и прихожу к ней, то застаю ее на кровати под балдахином; она лежит там и после обеда.
— Лежу и погружаюсь в себя! — говорит она. — Искупаю свое бессилие. Для этого надо, чтобы вокруг тебя были пустыни, монастыри, древние стены! Этого у меня нет, поэтому моей обителью стала кровать… Времена меняются, дорогуша.
Просторная спальня залила солнцем, в его лучах отчетливо видна пыль, которую никто не вытирает, так как бабушка никого к себе не впускает и не разрешает убирать. На огромном господском столе громоздятся в беспорядке полупустые пачки сигарет, остатки чая, крестики и иконы, тарелочки с кусочками мармелада. Посреди всего этого в серебряном подсвечнике и днем горит забытая свеча — с ее помощью бабушка разбирает буквы и цифры.
И все же я иду к ней без всякой конкретной цели — как к единственной власти, которая здесь еще распоряжается. Власти, способной пойти на союз с кем угодно, как и ее Бог, прибегающий к дьявольским уловкам… Власти, за которой хочется понаблюдать с легким испугом, но и подчиниться ей.
В какое смятение все-таки приходят мысли, когда стоишь перед бабушкой. Перед старой беспомощной женщиной, которая под разными предлогами остается лежать в неприбранной комнате и предается безумной игре своего воображения — при свете забытой, горящей среди бела дня свечи, тоже как бы ополоумевшей.
Сегодня, когда я утром была у бабушки, пришел Виталий. Он приблизился к кровати под балдахином.
— После обеда мне надо съездить в Красавицу, — сказал он и повернулся ко мне, — не хочешь ли поехать со мной. Марго? — И снова к бабушке: — Не хочешь ли передать что-нибудь?
Бабушка покачала головой. Она лежала на спине, лицом кверху.
— Туда? Нет!.. Ты вернешься вечером?
— Скорее всего, нет. Раз уж я буду на полпути, то…
— Ладно, — прервала она его, — поезжай, поезжай.
Не спросив и не выслушав куда. Должно быть, эту чуткую, ясновидящую женщину и в самом деле как облаком окутывали ее суеверные думы, отделяя ее от сына, скрывая его судьбу. А может, она закрывала глаза на эту судьбу как на нечто такое, с чем та распростилась, что отныне стало ей враждебным, что надо отринуть? Может, между ними снова вспыхнула былая вражда, неизменная, неизбежная — ничем не укротимая судьба, которая только подвела их к последнему рубежу? Виталий ушел не сразу.
— Ты не встанешь? К столу? Или потом? — спросил он.
— Нет, — ответила она. — Так я лучше отдыхаю от этого.
Он тоже не спросил: от чего? Но все еще не уходил. Стоял перед кроватью с балдахином, где она лежала с закрытыми глазами.
Между складками одеяла из зеленого шелка покоилась на краю постели ее рука; маленькая, пухлая, без перстней на пальцах, но с длинными ногтями, она свисала вниз; открытая ладонь была повернута наружу.
Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что именно на эту руку смотрел и смотрел Виталий, словно не в силах оторвать от нее взгляда.
Может, мне все это привиделось, так как, глядя на эту руку, я вдруг разволновалась и меня охватил страх?
Эта рука заставляла его, маленького мальчика, бить земные поклоны и касаться лбом пола перед какой-нибудь дароносицей… она вызывала в нем ненависть, но ненависть, уже тогда смешанную со страстным желанием оторвать ее, свою мать, от всего того, что их разделяло. Чтобы однажды, в доказательство своего мужества и своей зрелости, склонить голову перед ней, своей матерью!..
Разве то, что сосредоточилось и сконцентрировалось в одной-единственной точке, не излилось из этого глубочайшего источника на всю его жизнь? Не превратилось в сердечное тепло, с которым он относился к своему народу, проникая в самые глубины его благочестивого смирения, чтобы узреть в его просветленном лике образ собственной матери, вырванной из пут суеверия и вознесенной к ясности? И это становилось ненавистью, холодной, воинственной, ненавистью детских дней, переносимой с личности матери на угнетателей народа, будто именно она, мать, их и породила.
Разве не эта рука гнала его в каждую схватку, последняя из которых теперь заканчивается его бегством — куда, куда? К какой победе, к какой пропасти? Схватка, которой он уже не может помешать, которая обрела власть над ним, стала его судьбой, исполненной ненависти и любви к матери.
Пока он стоял перед матерью, не решаясь уйти, не возникла ли перед его глазами мечта детских лет? Его первое требование к жизни, от которого он так больше и не отступился. Не выполненное, это самое раннее и самое благородное требование увлекало его все дальше.
И все-таки это мне, скорее всего, привиделось. Ведь я видела его сразу после этого; видела, каким он был собранным, внимательным, ничего не забывающим; а я могу судить об этом, ведь именно мне он давал свои указания. Ни следа тайного или подавленного волнения. Хладнокровие, которое в этих условиях можно было бы назвать равнодушием, так ненатянуто и непритворно естественно он держался. Это производило ошеломляющее впечатление, казалось, будто подлинного Виталия видишь перед собой только сейчас, когда Виталия уже не было, когда он «перечеркнул себя».