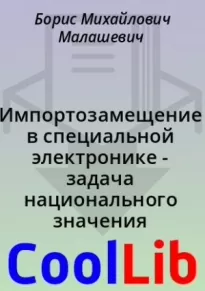Символы власти и борьба за власть: к изучению политической культуры российской революции 1917 года
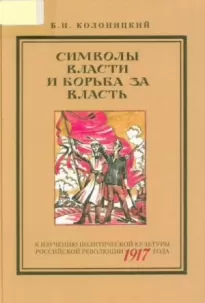
- Автор: Борис Колоницкий
- Жанр: История: прочее
- Дата выхода: 2012
Читать книгу "Символы власти и борьба за власть: к изучению политической культуры российской революции 1917 года"
Многие сухопутные части отказывались вновь надевать погоны, снятые ими «по ошибке», несмотря на соответствующие приказы и разъяснения. И части, подчинявшиеся командованию флота Балтийского моря, имели для этого некоторые формальные основания: приказ Максимова от 15 апреля относился и к ним. Сам адмирал признавал. «Приказ был отдан и для сухопутных войск», — официально сообщал он главнокомандующему Северным фронтом 28 мая[635]. После издания приказов военного и морского министра встал вопрос об интерпретации приказа по Балтийскому флоту в части, касающейся сухопутных войск. Комитет артиллерии сухопутного фронта Морской крепости императора Петра Великого 26 апреля потребовал от Максимова, чтобы он прямо указал, что приказ о снятии погон «не относится к чинам артиллерии сухопутного фронта». В сложившихся условиях командующий флотом вряд ли мог пойти на подобный шаг, он просто боялся реакции комитетов и масс, рассматривавших снятие погон как важное завоевание революции. Неудивительно, что ответ штаба флота на этот запрос сформулирован необычайно осторожно: «Приказом военного министра от 17 апреля вопрос о ношении погон воинскими чинами армии исчерпан, но на применении приказа не настаиваю, если к выполнению приказа встречаются по местным условиям серьезные затруднения»[636]. Фактически такая позиция санкционировала любые действия (и бездействие). Очевидно, сам адмирал Максимов не без оснований боялся реакции радикально настроенных частей и войсковых организаций, дислоцированных в Финляндии, и не спешил отменять свои распоряжения.
Однако военный и морской министр А.И. Гучков, одобрив снятие погон моряками, совершенно определенно сохранял их для всех видов сухопутных войск (хотя, по-видимому, в это время существовали проекты отмены золотых и серебряных погон с сохранением наплечных знаков различия защитного цвета). Циркуляр Главного морского штаба № 51 от 19 апреля прямо указывал, что приказ министра № 125 касается лишь матросов, а морские части сухопутного фронта должны носить старую форму[637].
«Приказ о введении положений об основных правах военнослужащих», подписанный уже новым военным и морским министром А.Ф. Керенским 11 мая, несмотря на решительные возражения командования, разрешал военным ношение гражданского платья вне службы, но требовал установления единообразия формы одежды. Этот документ, более известный как «Декларация прав солдата», указывал: «Смешанная форма ни в каком случае не допускается» (на деле, это требование нарушали и некоторые сторонники Временного правительства). Однако этот же документ, вопреки требованиям генералов, отменял «обязательное отдание чести»[638].
И для солдат, и для офицеров это был важнейший символический переворот: «Наши начальники напитались духом Николая II и сейчас дышат этим духом. Когда был издан приказ, что нет отдания чести — все офицеры повесили нос…», — писали солдаты 107-го пехотного полка[639]. В атмосфере же того времени отмена отдания чести могла восприниматься как новый прямой призыв к борьбе со всеми знаками различия.
Хотя «Декларация» делала ритуал отдания чести необязательным, это вовсе не ликвидировало почву для соответствующих символических конфликтов, вопрос стоял об интерпретации данного приказа. Порой матросы и солдаты трактовали его и как отмену всех других воинских ритуалов. Так, 5-го июня в Севастопольском флотском полуэкипаже дежурный офицер при разводе караула отдал приказ «смирно». Молодые матросы, выполняя уставную команду, взяли винтовки «на караул», но многие старослужащие моряки данную команду не исполнили, ссылаясь… на приказ Керенского об отмене отдания чести. Недовольный командир, носивший к тому же немецкую фамилию, выразил свои чувства весьма откровенно и резко, после чего был арестован матросами. Вскоре возник слух о том, что офицер «настойчиво и грубо» требовал отдания ему чести — сторонник соблюдения уставной дисциплины фактически обвинялся в том, что он нарушал приказы военного и морского министра. Именно так, искаженно, описала ситуацию специальная комиссия, присланная затем в Севастополь Временным правительством для изучения конфликта. В качестве одной из его причин называлось «требование офицера Губера об отдании чести, которое показалось команде попыткой нарушить их право» (так затем описывали данный конфликт и некоторые советские историки). Этот слух будоражил солдат и матросов, которые видели в действиях строгого офицера явный знак восстановления «старого режима». На состоявшемся вскоре стихийном митинге было постановлено арестовать нескольких непопулярных офицеров, у которых при аресте было найдено подозрительно много оружия, что еще более накалило обстановку. Затем митинги приняли решения об обезоруживании всех офицеров и об отстранении от должности командующего Черноморским флотом адмирала А.В. Колчака и его начальника штаба. Сам адмирал докладывал в Ставку, что движение началось без санкции Исполнительного комитета, однако комитеты тоже испытывали давление со стороны митингующих. Утром 6 июня и делегатское собрание постановило отобрать у офицеров оружие, которое следовало передать полковым и судовым комитетам (требование обезоруживания офицеров звучало в Севастополе уже 5 марта). Речь шла об изъятии и огнестрельного, и холодного оружия, которое было почетным символом власти офицеров. Офицеры же, прибывавшие в Севастополь, должны были сдавать свое оружие в городской Центральный исполнительный комитет. Последовала знаменитая речь адмирала Колчака перед командой флагманского корабля, после которой он сделал эффектный жест: бросил свою Георгиевскую саблю в море (16 июня Союз офицеров армии и флота постановил преподнести адмиралу новый Георгиевский кортик). Менее известен другой, более трагичный эпизод: один молодой офицер отказался сдать свое оружие и застрелился. Позже Временное правительство отстранило Колчака от командования флотом[640].
Командование Черноморским флотом искало причину этого протестного движения черноморцев в пропаганде радикально настроенных делегатов Балтийского флота, прибывших в Севастополь незадолго до событий. Со своей стороны, их роль всячески подчеркивали и большевики-мемуаристы, П.Е. Дыбенко в раннем варианте своих воспоминаний даже утверждал, что якобы именно матросы-балтийцы, прибывшие в Севастополь, сами лично обезоружили Колчака: «Шпагу с него сорвали, за борт бросили»[641]. Некоторые советские историки выделяли также инициативы севастопольских большевиков, хотя на деле они в это время были еще очень слабы. Соответственно, в исторической литературе порой даже и не сообщалось о конфликте вокруг «отдания чести»[642].
И политические противники большевиков в 1917 г., и мемуаристы-коммунисты, и советские историки преувеличивали организационное воздействие большевиков в Севастополе и в Черноморском флоте в целом. Они явно недооценивали стихийный характер движения личного состава частей, продолжавших, в целом, придерживаться оборонческих взглядов. Солдаты и матросы в это время голосовали за политические резолюции умеренных социалистов, но тех ставили в тупик спонтанные действия их избирателей, они никак не соответствовали тактике меньшевиков и эсеров. Известную растерянность, охватившую севастопольских социалистов-оборонцев перед лицом неожиданного массового стихийного движения, отражала статья одного из них: «Ведь мы фактически стояли под знамением (!) „Единства“, ведь мы не пустили Ленина, и вдруг, на одном митинге, неожиданно, потеряли сами себя, и единство обратилось в диктатуру… митинга!»[643].
И в Севастополе отношение к символам и ритуалам стало сигналом для массового движения, преимущественно стихийного, существенно изменившего расстановку сил на Черноморском флоте в пользу комитетов, хотя последние это движение не ожидали.
Итак, даже отмена отдания чести вовсе не уничтожала почву для конфликтов на основе воинских ритуалов приветствия. К тому же и многие войсковые части, и военные корабли считали положения «Декларации» явно недостаточными. Команда минного заградителя «Лена» 19 мая приняла резолюцию следующего содержания: «Опять везде и всюду мы слышим: „Отдание чести“, „начальство“ и т. п. Мы, свободные воины-граждане, знаем, кому отдавать честь, приветствуя его, и кого не приветствовать… Требуем отмены отдания воинских „почестей“ и „церемоний“, как то: вызова караула наверх, „захождение“ и т. п.». Команда требовала также изменения и либерализации правил ношения штатской одежды военнослужащими: «Требуем изменения параграфа 7 о праве разрешения пользоваться штатским платьем. Разрешение это должно исходить не от главнокомандующего армиями и командующего флотом, а от военных комитетов»[644].
Между тем командующий Балтийским флотом вынужден был выполнять указания морского министра, однако сам не спешил отдавать определенные приказы, ибо они могли повлечь новые конфликты в подчиненных ему частях. Адмирал А.С. Максимов пытался в мае восстановить погоны в армейских частях флота осторожно, действуя методом убеждения. Сам он 28 мая сообщал командованию Северным фронтом: «Через несколько дней (после издания приказа 15 апреля. — Б.К.) я лично разъяснял морским командам и сухопутным начальникам, что флоты всего мира не носят погон, а, наоборот, сухопутные войска, как и наша миллионная армия, все носят погоны. Надеюсь, что сухопутные части постепенно оденут погоны, в чем мне оказывает содействие местный Исполнительный комитет». Ранее в прессе была опубликована телеграмма командующего Балтийским флотом: «Приказ о снятии погон относится только к флоту. Флоты всего мира имеют форму без погон, между тем как армии всего мира имеют погоны. Армейские части в Гельсингфорсе сняли погоны еще до выхода приказа. Надеюсь, что теперь они постепенно оденут погоны». Обращение адмирала, фактически цитировавшее приказ Гучкова от 17 апреля, было напечатано в газете Совета Ревеля с комментарием редакции: «…Публикуется с целью скорейшего установления единообразной формы одежды воинских чинов». Можно поэтому предположить, что для войск данного гарнизона эта проблема была весьма актуальна[645]. Однако приказы министра и командующего флота исполнялись далеко не всегда, в Гельсингфорсе и во второй половине июня многие солдаты не носили погон. На фотографиях, запечатлевших демонстрацию 18 июня, можно увидеть немало военнослужащих без наплечных знаков различия. На фотографиях того времени видно, что погоны не носили и некоторые военнослужащие, члены Исполнительного комитета Гельсингфорсского совета[646]. Таким образом, отказ от погон поддерживали своим авторитетом и видные представители комитетов.
Преобразование морской формы оказало некоторое воздействие на форму сухопутную. 23 мая генерал А.А. Брусилов, только что занявший пост Верховного главнокомандующего, утвердил «План формирования революционных батальонов волонтеров тыла». Для личного состава батальонов предусматривалась особая форма и особые знаки различия: «Обмундирование общеармейское, но без погон. <…> Офицеры, поступившие волонтерами, сохраняют свою форму, но исключительно защитного цвета, без погон. Начальники имеют вокруг обоих обшлагов рукава красно-черную тесьму, по образцу морских чинов. Отделенный — 1 тесьму, взводный командир — 2, ротный командир — 3, батальонный командир — 4. Помощники начальствующих лиц — столько же полос, но без завитков». Данный план отчасти предвосхищал принцип знаков различия по должности, введенный затем в Красной Армии. Можно предположить, что ориентация на морскую форму была вызвана тем, что добровольцев предполагалось набирать в значительной степени из моряков Черноморского флота (эти надежды не оправдались). Матросам же в той ситуации было бы крайне сложно вновь надеть погоны — это сразу же вызвало бы обвинения в контрреволюционности. Однако приказ Верховного главнокомандующего от 13 июня все же вводил погоны и для чинов данных батальонов: «Обмундирование общеармейское, с черным трафаретом на погонах защитного цвета, в виде черепа и двух скрещенных костей, как эмблемы бессмертия». Но судя по фотографиям, одни добровольцы носили погоны, а другие игнорировали наплечные знаки различия, подобно многим другим частям армии. Всех же волонтеров внешне объединяли нарукавные черно-красные нашивки[647].