Арена
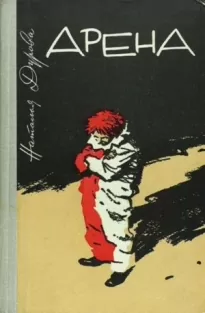
- Автор: Наталья Дурова
- Жанр: Проза
- Дата выхода: 1965
Читать книгу "Арена"
14
Щи варились медленно. Электрическая плитка часто перегорала, и Клава, доставая карандашом перегоревшую спираль, опять соединяла ее. Надя тихо сидела в углу, штопая носки Шовкуненко. Ее раздражал неотступный взгляд Шишкова. Что ему нужно? Ей казалось, что Шовкуненко намеренно не обращает внимания. Его усталое спокойствие Надя теперь принимала за равнодушие. Она сама еще не осмыслила своего отношения к нему. Только понимала, что привязывалась к нему с каждым днем все сильнее. Ей казалось, что она не любила его, но и не могла без него. И назойливые взгляды Шишкова ее раздражали. Надя думала о Шовкуненко — это могло его оскорбить.
Надя виновато посмотрела на Шовкуненко. Он задумчиво катал в руках хлебный мякиш. Перед ним уже лежал шар величиной с куриное яйцо. Взяв пробку, Шовкуненко нетерпеливо острогал ее и, вставив в нее четыре спички, сделал человечка. Человечка поставил на шар и тот, маленький, с тонкими спичечными ногами, стоял твердо, будто гордясь серными копытцами.
— Полно продукт изводить, — Арефьев воткнул в бутылку бумажную пробку и недовольно покосился на человечка.
— Вы знаете, дядя Август, о чем я порой думаю? Вот если бы наш цирк на колесах отдали в надежные руки, то какое доброе дело смогли бы мы дать народу. Ведь по каким закоулкам нас ни бросает! И всюду мы хоть каплю, но стараемся дать искусства. А случай в Медведевке? Пришел парнишка. Какие сальто крутил! Пустите его на наши подмостки, и вырос бы изумительный артист. Но кто его пустит? Пасторино? Когда он и нас, которые творят, едва терпит. — В словах Шовкуненко сквозила злость, и вдруг задумчиво, но твердо он заключил: — Может, я глуп. Иначе, конечно, ничем нельзя объяснить наше пребывание здесь… Но если передвижки сделать точным слепком цирка, со всей его системой, если бы нас…
— Нужны, конечно, нам надежные государственные руки. Но, милый Григорий, у этих рук сейчас столько дел, что до нашего администратора они не доходят. Смотрят пока на нас сквозь пальцы. А вот если дойдут, то уж сначала нас возьмут в ежовые рукавицы, прежде чем просто подадут руку и скажут: «Ну, здравствуйте! А где же вы были?»
Арефьев всегда увлеченно откликался на мысли Шовкуненко. Говорил старик занятно, будто исполнял перед друзьями отрывки нового антре.
— Ведь это для нас Пасторино чудовище. А для них пока — администратор. В конце концов он найдет себе пристанище в музее уголовного розыска. Мы ведь артисты — солисты Н-ской облгосфилармонии. — Арефьев встал, учтиво отрекомендовался, застыв в позе опереточного простака, затем добавил: — Бедная филармония! Она и не ведает о махинациях Пасторино! А если… Впрочем, я помню, как к одной старой деве пришел аферист и, распахнув объятия, слезно пропел: «Мама родная, наконец, я нашел тебя!» Со старой девой случился удар, ее привели в чувство. А после процесса она из добрых побуждений, а может, и потому, что сын был некогда ее затаенной мечтой, носила ему передачу. — На лице старого рыжего клоуна промелькнула улыбка. Он оглядел сидящих за столом друзей и, налив в граненый стакан водки, поднял его и произнес тост: — Так вот, молодежь, я хочу выпить за Н-скую филармонию, чтобы она не была так же чиста и невинна, как та старая дева, и не забыла избавить своих артистов-солистов от афериста Пасторино.
Шишков, достав из кармана двадцать копеек, торжественно протянул их Арефьеву:
— Сегодня ты, папа, остроумен. Вот гонорар.
Клава поставила кастрюлю с дымящимися щами на стол.
— Капуста чуть жестковата. На этой плитке вряд ли она разварилась: накал слабый.
Глубоких тарелок было всего три.
— Надо бы тебе, Клавушка, щи варить на огне наших взаимоотношений с Пасторино. Вот где накал: опасно для жизни, щи сварятся за несколько минут, — сказал ей муж и протянул миску, — еще одна тарелка.
Передав мужчинам тарелки со щами, Клава поставила перед собой кастрюлю и подозвала Надю:
— Мы с тобой, как солдатки, будем из одного котелка. Не возражаешь?
— Конечно. В походе ведь по-походному.
Шишков ел мало и нехотя. На щеках у него появились красные пятна, боязнь закашляться при всех погнала его в сени. Там он кашлял глухо, с надрывом. Едва откашлявшись, достал папиросу и, сделав вид, что табак был крепок, вернулся…
Когда Клава с Надей в четыре руки взялись за посуду, Шишков вызвался помогать. Он предложил шутливо, но Надя угадала в незатейливой шутке желание побыть около нее, прикоснуться к тому, что она держала в руках. И вдруг Надя рассердилась на Шовкуненко. Почему он молчит, где сейчас его глаза? Сидит и лепит, хлеб переводит.
— Что посуда! Клавушка одна с ней управится. Вы бы лучше помогли мне по воду пойти. Темень, одной боязно…
Надя нарочно с кокетством посмотрела на Шишкова. Но Шовкуненко, казалось, был безучастен. Он по-прежнему беседовал с Арефьевым, и разговор обоим уже становился в тягость. Усталость за день давала себя знать.
Вскоре Арефьев с Шишковым собрались к себе. Шовкуненко, замотав шею кашне, набросил пальто, пошел их провожать. Надя подошла к окну, посмотрела им вслед.
Клава раздевалась. И вдруг обычный жест Клавиного мужа вызвал в Надином сердце смятение. Костя подошел к Клаве и, уверенный в том, что никто и ничего не видит, отвел золотившуюся на шее прядку, поцеловал, провел губами до плеча…
И Наде стало невыразимо тоскливо от этого чужого счастья.
Теперь ей казалось бессмысленным ожидание хоть какой-то помощи от Вадима. Она часто спасала себя, оставляя в душе щелочку, сквозь которую в горькие минуты в сотый раз всматривалась в то, что уже прошло и что никогда не сможет повториться. Вадим выпал из жизни, но сейчас выпал и из сознания.
Надя пошла в сени. Лицо ее горело. Значит, мучила ее не пустота, не невзгоды, без конца сопровождающие в дорогах, а отсутствие самой простой ласки. Но разве Шовкуненко каждый день не заботится о ней? Нет, нет, не заботливость, сейчас ей нужно другое. Сегодня Шишков разбудил в ней дремавшее чувство, требовательное и стыдливое. Жест Клавиного мужа, да само ее сердце, которое от одной только мысли трепетно разбежалось, стуча в каждой жилке. «О боже, как мне хочется убежать, чтоб… Но ведь это я сама, от кого же убегать? Рассказать ему, рассказать, как всегда, когда бывает тоскливо здесь, в передвижке, подсказать, что… Нет, никогда!..»
Надя стояла в сенях долго, не чувствуя холода, стояла, томительно прислушиваясь к каждому скрипу. Вот он войдет сейчас, и она… Но Шовкуненко не шел, и, постепенно успокаиваясь, Надя вернулась, но все еще ждала. Он мог сейчас воспользоваться ее ошибкой, связать, спутать ей, как норовистой лошаденке ноги и глядеть, как она ковыляет на его иссякающем лугу, ловя голодными глазами блики зелени, света чужих полей. Да, он мог. Но Шовкуненко любил ее…
Надежда, натянув одеяло, лежала, дрожа в темноте, напряженно прислушиваясь к его тяжкому, как приглушенный стон, дыханию.
Он инстинктивно понимал, что происходит с Надей, и не в силах был сдвинуться с места. Нужно время. Во имя любви, которой он живет и ждет от нее, он не имеет права к ней прикоснуться. Маленький человечек смотрел на него дырочками глаз и, казалось, одобрял. Шовкуненко чуть-чуть помесил пальцами мякиш, воткнул в него человечка и, встав, подошел к топчану.
Надежда, вздохнув, закрыла глаза, а губы ее снова затрепетали, уголками выдавая улыбку облегчения.
Шовкуненко присел на краешек, склонился над Надей и ласково, добро глядел на нее. Потом, прижав к себе ее голову, он тихо погладил ее, шепча:
— Надюша, маленькая… За окном ночь, вечные звезды, спать надо, спать…
Надя впитывала в себя его ласку, голос и постепенно успокаивалась. А Шовкуненко сидел подле Нади, большой, грустный друг, который боится напугать ее своей лаской и силой, друг, протянувший ей, как маленькой, игрушку. Маленький человечек оказался в Надиной ладони, она поднесла игрушку к губам, поцеловала ее и, положив под подушку, уснула, не выпуская руку Шовкуненко.
Шовкуненко сидел не шевелясь, представляя себе свое счастье. Оно когда-нибудь придет, придет прочно, и никаких сомнений не будет, что впопыхах воспользовался чужим. А какое оно? Выдумать его? Трудно. Вот на подушке ее голова, а рядом человечек. Шовкуненко осторожно высвободил руку. Прилег. Вскоре тяжелый сон смежил ему глаза… Цирк, даже во сне цирк, где тысячи зрителей рукоплескали. И Шовкуненко, с наслаждением улыбаясь, смотрел изумительный номер. Серебряный шар перекатывался по манежу, а на нем, семеня серными копытцами, цепко, не сваливаясь, держался человечек…
После этой ночи Надя с утра ждала: скорее бы кончился их рабочий день и к ней пришел бы в сумерках он… Она не называла его по имени и не спрашивала себя: «Неужели люблю? И нужно ли это?» Все было просто и необходимо, как дождь в засуху. Она видела, как он в минувшую ночь боролся с собой, боясь напугать ее своим всеобъемлющим последним чувством. А может, он был просто одинок в те часы, когда их не связывал крошечный пятачок арены. А она? Ждала ливня, который настиг бы ее, уже изнуренную от ожидания, и она впитывала бы его жадно, сосредоточенно, вовсе не думая, что это: счастье или… Наде было тоже слишком пусто, и, быть может, поэтому Шовкуненко, не доверяя ей, не позволил себе в эту ночь печальную радость, которую иногда сменяет слишком отчаянная боль утраты.
Наконец-то окончен трудный базарный день, напряженно отработанный и прожитый ими вместе. Усталость требовала отдушины. Надя долго не снимала грим, сидя в холодной брезентовой палатке. Шовкуненко ждал ее. Уже несколько раз их окликали Клава с Костей. А когда стемнело, глуховатый Филипп ввалился, моргая заснеженными ресницами:
— Вы что это, зимовать тут решили? Право слово, заметет…
Шовкуненко вышел вслед за Филиппом. Надя с раздражением и тоской слушала, как они разгребали снег. Лопаты скрежетали дуэтом, нудно и равномерно. И ей становилось горько, что в жизни были рядом и скрежет лопат и белый, пусть не первый, но могуче белый снег.
Шовкуненко, наконец, вошел.
— Будем собираться домой, — сказал он скорее себе, чем Наде. Она оглядела его запорошенное пальто и, поднявшись, подошла к нему, сняла несколько снежинок.
— Легкий…
— Да, сегодня он слишком легок, до призрачности. Вот и нет его, растаял. Пойдем, Надя, пойдем. Уже поздно.
— Зато лопата вон не тает, — горько заметила Надя. — Пойдемте, лучше снег, чем… — и, не договорив, подняла свои большие, тяжелые глаза, вдруг впервые увидевшие Шовкуненко. Он понял сразу, понял, но не поверил. Только осторожно погладил ее по голове. Она не потянулась к нему: застыла. Тогда он прижался к ее щеке своей колючей щекой, потом усадил Надю на табуретку, бережно снял грим с ее лица, точно сейчас для него это было самым важным. Сделав это, он пристально посмотрел в ее лицо и, приподняв Надю с табуретки, притянул к себе. Глаза ее были прикрыты, но он уловил в них благодарность и, по-прежнему еще не веря себе, осторожно губами прикасался к ее лицу.
В эту ночь они стали близки.
И опять у него тот же сон, сон о человечке… Вот ему подают перш. Человечек берет его в свои спичечные руки. По залу восхищенный гул:
«Двойной баланс? Разве это возможно?»





