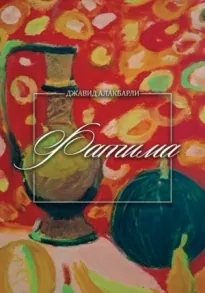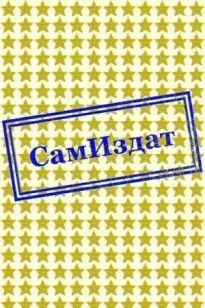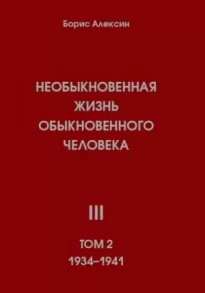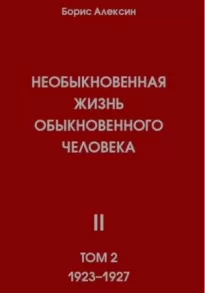Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 4. Том 1
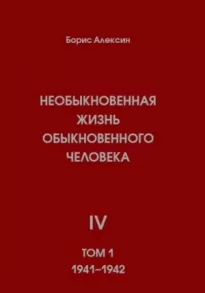
- Автор: Борис Алексин
- Жанр: Биографии и Мемуары / Историческая проза / Самиздат, сетевая литература / Военная проза
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 4. Том 1"
Правда, по ледовой дороге движение шло круглосуточно, то есть машины следовали и днём, но, очевидно, в целях маскировки воинские части, вывозимые из кольца блокады, передвигались только в ночное время.
Колонну автомашин медсанбата возглавляла «санитарка», на которой ехал командир батальона, начальник штаба, командир медроты Алёшкин и несколько врачей. Как известно, эта машина вмещает одиннадцать человек, вещи ехавших сложили между скамейками, и они фактически лежали на ногах пассажиров, причиняя им при каждом толчке большие неудобства. Почти у всех были вещевые мешки, так как привезённые из дома чемоданы ещё осенью отправили по домам или выбросили во время дислокации. Один только Бегинсон оставил свой чемодан при себе. Это был обыкновенный фанерный чемодан, обитый металлическими угольниками. Бегинсон наполнил его разными вещами и, конечно, книгами, поэтому он представлял солидную тяжесть. При каждом толчке машины чемодан подскакивал и больно ударял своими острыми краями по ногам сидящих рядом. Доставалось, конечно, и самому Бегинсону, который держал этот злосчастный чемодан возле себя, но если хозяин мужественно сносил удары своего «сокровища», то Сангородский и Скуратов, сидевшие рядом, при каждом толчке разражались неистовой бранью и, конечно, не только по адресу чемодана, но и по адресу его владельца. Это вносило некоторое разнообразие в довольно скучную и утомительную поездку. Все были стиснуты друг другом и вещами и не могли даже пошевелиться. Ехали в абсолютной темноте, окна машины были закрыты плотными клеёнчатыми шторами, и Лев Давыдович мрачно шутил:
— Ну, если нырнём в полынью, то не потонем, а будем плавать, как подводная лодка, так нас загерметизировали.
Ко всему этому прибавлялось и то неудобство, что двери машины (они были в задней стенке) открывались только снаружи. Пассажиры это знали и понимали, что если машина нырнёт, то выскочить никому не удастся. Борис, сидевший у самой дверцы, подумал: «А всё-таки глупо, что мы позволили шофёру захлопнуть дверцу, мало ли что… Надо будет её немного приоткрыть, я бы придерживал её рукой. Ехать будет слегка холоднее, но зато есть какой-то шанс на спасение». Подумав об этом, он попросил Скуратова постучать в стенку кабины и попросить Перова, сидевшего рядом с шофёром, остановить на несколько минут машину. Тот исполнил его просьбу, и на одной из площадок для разъездов, а такие были устроены почти через каждые полкилометра, «санитарка» свернула в сторону и остановилась. Остальные машины колонны продолжали своё движение вперёд. Для решения вопроса о дверце понадобилось немногим больше минуты: её открыли, к ручке прицепили чей-то поясной ремень, и Алёшкин, сидевший крайним, держал его в руке, не позволяя дверце открываться широко, и в то же время ногой, вставленной в щель, не давал ей захлопнуться. Такие перемены сразу улучшили состояние ехавших: в машину теперь поступал свежий воздух, пожилым людям стало легче дышать. Кроме того, в узкую щёлку двери близсидящим всё-таки можно было хоть что-нибудь видеть. И, наконец, стало понятно, что в случае какого-нибудь несчастья есть шанс покинуть машину.
Последнее, впрочем, было надеждой призрачной: за сутки ожидания переправы медсанбатовцы успели узнать, что если машина попадала в полынью, то никто из ехавших и в кабине, и в кузове не успевал и крикнуть. Машина погружалась мгновенно, а ледяная вода, видимо, так сковывала движения тонущих, что они камнем шли на дно. Во всяком случае, как говорили, ни одного человека, попавшего через полынью в воду Ладоги вместе с машиной, спасти не удалось.
Естественно, что из-за остановки машина комбата теперь оказаться в голове колонны уже не смогла, лишь сумела вклиниться в середину. Перова это не очень огорчало: он рассчитывал, что при выезде на берег колонна остановится, и они займут своё место впереди.
Кстати сказать, замыкала колонну тоже «санитарка», в которой ехали комиссар медсанбата Прохоров, Прокофьева, её медсестра и начсандив Емельянов. Он уже более или менее оправился от своей болезни и, хотя всё ещё испытывал большой страх ко всякому передвижению по льду, остаться в ленинградском госпитале не захотел, а решил следовать со своей дивизией.
Так, волею случая в голове колонны теперь оказалась вторая санитарная машина, в которой сидели операционные и перевязочные сёстры и фармацевты. В кабине ехал врач Дурков, его поместили сюда потому, что в последнее время, видимо, в связи с голодом и авитаминозом, у него появилось какое-то осложнение в месте старого перелома ноги. Мы, кажется, уже говорили, что ещё студентом при неудачном прыжке он получил открытый перелом правой голени, вследствие чего нога эта стала короче, голень была искривлена, и при ходьбе Дурков прихрамывал. По этой же причине он не мог носить сапоги, а чтобы как-то компенсировать неполноценность ноги, в правый ботинок подкладывал комок ваты или тряпок. Из-за длительных нагрузок и неблагоприятных условий, в которых он находился во время блокады, место перелома воспалилось, опухло и причиняло ему сильные страдания.
Когда колонна машин медсанбата достигла берега, регулировщики, следившие за переправой, видимо, получив сведения о приближающихся самолётах противника, остановиться не разрешили, а потребовали скорейшего отъезда от берега. Шофёр в машине Дуркова, Герасимов, молодой, горячий водитель (его машина была одной из лучших) отличался и лихачеством. К моменту окончания переправы посветлело, дорогу стало видно лучше, и Герасимов, прибавив газу, оторвался от колонны. Заметив это, он предложил Дуркову ехать ещё быстрее, чтобы попасть в Кобону, пока не собрались все, выбрать себе получше жильё и «пожрать как следует». Это предложение Дуркову показалось заманчивым, и их машина помчалась со всей возможной для неё быстротой.
Спустя полчаса они достигли крупного села (или посёлка) Кобона, подобрали подходящий дом, попросились на отдых. Ещё раньше предполагалось, что в этом селе медсанбат и тыловые подразделения проведут дневной отдых и дождутся указаний о месте дислокации своих подразделений. По рассказам Дуркова и Герасимова, они, опередив колонну батальона, по крайней мере на час, полагали, что сумеют за это время не только закусить, но и отдохнуть.
В этом селе, не затронутом войной, почти никто не был эвакуирован. Колхозники жили в своих домах, как и до войны. Через село вот уже более месяца ежедневно проезжало большое количество машин с беженцами, войсками. Большая часть их не останавливалась, следовала к железнодорожным станциям Войбокало или Жихарево, где их уже ждали составы, чтобы увезти вглубь страны. На этих станциях были организованы специальные питательные и медицинские пункты. Прибывшим немедленно оказывалась медпомощь и организовывалось рациональное питание. В Кобоне же останавливались лишь случайные машины.
Жители Кобоны, зная положение с питанием в Ленинграде, в большинстве бесплатно подкармливали своими домашними продуктами (главным образом овощами, а иногда и молоком) шофёров и случайно остановившихся беженцев. Но среди крестьян были и такие, которые старались на этом нажиться, а так как голодные люди при виде обильной еды совершенно теряли рассудок, и за булку хлеба отдавали костюм, пальто или сапоги, то этим спекулянтам доставались порядочные барыши.
Случилось так и с санбатовцами, приехавшими вместе с Дурковым, и с ним самим, и с шофёром Герасимовым. Воспользовавшись алчностью приютивших их хозяев, они принялись безудержно менять различные свои вещи на продукты, которые немедленно, с жадностью изголодавшихся людей, поедали. Напрасно некоторые медсёстры, например, Екатерина Васильевна Наумова, пытались унять аппетиты молодёжи, те их не слушали, тем более что им подал пример ехавший с ними врач.
Дурков имел большие запасы папирос, а в Кобоне, как, впрочем, и других местах, расположенных по эту, да и по ту сторону блокады, дело с табаком обстояло очень плохо. Табачные изделия ценились дорого. Во время нахождения в блокаде, когда выдавался ещё каждую десятидневку командирский паёк, в который входили папиросы, Дурков сделал запасы. Сам он не курил, а своим товарищам из пайка выделял очень мало, даже во время начавшегося табачного голода выпросить у него несколько папирос было делом трудным. Благодаря этому, у него и скопилось довольно значительное количество папирос. А здесь это оказалось вещью, ценимой на вес золота. Правда, он этого не знал, и потому за то, что ему с удовольствием отдали бы за одну пачку папирос, платил пятью. Так или иначе, его желание сбылось: за десять или пятнадцать пачек папирос ему нажарили на кусковом сале большую сковородку картошки с луком и дали ещё целую буханку хлеба. Пока он поедал это огромное количество еды (сковородка вмещала, вероятно, килограмма два картошки и около полкило сала), на дворе у этого дома открылся настоящий базар. Девушки-медсёстры распродали, вернее, разменяли, всё, или почти всё, своё гражданское имущество, оставленное для повседневной носки. Были поменяны на хлеб, картошку, молоко, лук, солёные огурцы, яйца — рубашки, кофточки, лифчики, туфли, чулки и другие вещи дамского туалета. Некоторые пустили в обмен даже полученное ими красноармейское бельё. Герасимов сумел на военные ботинки, неизвестно каким образом оказавшиеся у него, и на кое-какое личное барахло выменять даже бутылку водки с соответствующей закуской, и через полчаса после этого лежал в машине мертвецки пьяный.
Дурков, осилив свою картошку, свалился в беспамятстве. Многие медсёстры объелись до рвоты и лежали в разных углах отведённой им комнаты, чуть живые. Одним словом, когда колонна батальона прибыла в Кобону, то по селу уже носился слух о каком-то командире и медсёстрах, которые отравились едой и сейчас помирают.
Перов, комиссар и Алёшкин, услыхав такие разговоры, прежде всего приняли меры, чтобы местное население не заключало никаких торговых сделок с личным составом медсанбата, а сделать это было нелегко. Начальнику штаба Скуратову пришлось собрать около себя с десяток наиболее надёжных бойцов из санитаров и выздоравливающих, окружить ими колонну машин, стоявшую в конце села, и чуть ли не силой оружия разгонять и жителей с продуктами, и своих людей, старавшихся тем или иным способом продукты эти заполучить. На помощь ему пришли комиссар и почти все врачи, которые особенно чётко понимали, к чему может привести переедание после длительной и тяжёлой голодовки.
Алёшкину было поручено выяснить, кто эти командир и девушки, отравившиеся пищей, о которых толковали сельчане, и принять меры по оказанию им необходимой помощи. Перов и комиссар предполагали, что это мог быть Дурков с медсёстрами, их машина до сих пор не была найдена. Борис, взяв с собой Картавцева, трёх медсестёр из госпитального взвода и нескольких санитаров, направился на поиски пострадавших, с помощью местных жителей их вскоре удалось разыскать. Когда Алёшкин увидел, что это действительно Дурков и операционно-перевязочные сёстры его роты, разозлился до предела. Он с гневом обрушился на алчных хозяев, пообещав, что за подобные действия их привлекут к суду военного трибунала, чем, конечно, основательно их напугал. Затем он попытался поговорить с пострадавшими, но выполнить это практически не удалось. Послав одну из сестёр с санитаром за необходимыми инструментами и врачами из госпитального взвода и, прежде всего, за Прокофьевой, приказал хозяевам дома немедленно накипятить как можно больше воды, а самим временно убираться прочь. При этом заметил, пусть скажут спасибо, что он их сейчас же не арестовывает и не отправляет в тюрьму. Не на шутку струхнувшие крестьяне, вскипятив большой котёл воды, потихоньку ушли со двора, махнув на своё добро рукой. Пусть уж пропадает всё, самим бы только целыми быть.