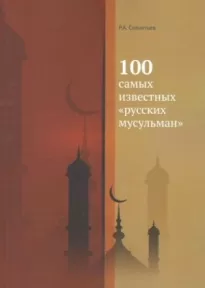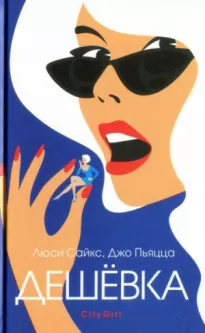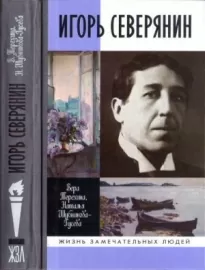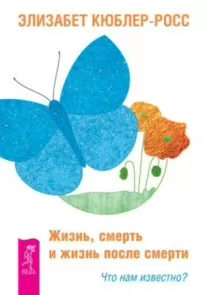Повести

- Автор: Ал. Алтаев
- Жанр: Детская проза
- Дата выхода: 1972
Читать книгу "Повести"
IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВИНТ
Просторный мрачноватый кабинет с большим столом, заваленным листами александрийской и ватманской бумаги — архитектурными чертежами. На отдельных столиках и этажерках — рисунки; на стенах — образцы барельефов. На камине — бронзовые часы с серебряным боем, в виде Атласа, поддерживающего земной шар. А за столом — невысокого роста человек с хрящеватым носом и вельможным выражением лица. Это его высокопревосходительство президент Академии Алексей Николаевич Оленин.
У президента напряженный день. В ожидании назначенных приемов он пригласил к себе Федора Петровича Толстого.
Почти юношеская фигура знаменитого медальера в мундире отставного флотского лейтенанта, со спадающими к воротнику русыми кудрями — смесь военной выправки и художественной вольности, — мало вязалась со строгой парадностью президентского кабинета. Еще в 1809 году, к удивлению некоторых старых профессоров, Федор Петрович был избран почетным членом Академии художеств.
— Военный, почти мальчик, — говорили они, — и вдруг — почетное звание!
— Ежели бы у него имелись генеральские эполеты — туда-сюда. Но, прости господи, только лейтенант!
— Статочное ли дело, художник из вольноприходящих, и вдруг…
— Конечно, ничего не скажешь, его барельеф "Триумфальный въезд Ромула в Рим" — выдающаяся работа. Но все же: флотский лейтенант… И кто у нас в совете моложе пятидесяти лет?
Президент благоволил к Толстому, ставя его высоко не только за талант, но и за то, что Федор Петрович был человеком "своего круга" — граф. Титул являлся для Оленина немаловажным аргументом.
Президент пригласил к себе медальера, чтобы посоветоваться о сильно заботивших его делах.
Толстой, впрочем, хорошо знал, что упрямый, настойчивый "диктатор" редко слушал чьи-либо советы, считаясь только с высочайшим повелением и собственным мнением.
Стуча о стол костяшками сухих пальцев, Оленин цедил сквозь зубы:
— Вы, граф, за всех заступаетесь. Вот и сейчас — за безобразника Александрова, исключенного в свое время из Академии. Когда-то вы так же заступались и за этого… как его… Полякова. А Поляков ваш оказался истинным негодяем. Мало того что бежал от господ, а чуть не убил их управляющего. Что вы можете возразить?
На лице Федора Петровича отразилась печаль. Что он мог, в самом деле, сказать? История с мажордомом Благово дошла до него, вероятно, сильно преувеличенной, искаженной. К бедняге Полякову он относился как к родному. Трагическая развязка их любви с Машенькой причиняла Толстому душевную боль.
— Теперь, граф, — продолжал Оленин, — вы стоите горой за выдачу пьянице аттестата первой степени, ввиду его якобы исправления за эти годы. Вы хлопочете о том, чтобы ему задали программу на звание академика по батальной живописи.
Толстой торопливо подтвердил:
— Вот именно, именно. Таланты необходимо поощрять, а Александров…
— Пьяница и буян, повторяю. А главное — бастард [145], — твердил президент.
— Но, уверяю вас, он исправился. О нем самые лестные адресации. Нужно дать ход его дарованию. Александров не может существовать одними частными заказами.
Оленин досадливо передернул плечами:
— Я уже слышал это. Такие же слова и в адресации покровительствующих ему заказчиков, коим он исполнял портреты. Тайный советник граф Рибопьер и сенатор гвардии генерального штаба капитан князь Голицын — оба хлопочут. Александров и сам подавал прошение министру духовных дел и народного просвещения. И министр, как мой прямой начальник, передал мне сие дело на рассмотрение академического совета. Но я не могу удовлетворить просьбы. Кто поручится за то, что, поступив на службу, Александров не вспомнит старые привычки и не опозорит нас?
— Но вы подумайте: пять лет трезвой жизни и упорной работы! И такой талант! Мы все помним, каким он был блестящим баталистом.
Оленин отрицательно махнул рукой:
— Не-воз-мож-но! Евангелие нас твердо учит: ежели говоришь "нет", нельзя говорить потом "да", а ежели о чем говоришь "да", нельзя говорить об этом "нет". У совета должно быть постоянство. Решение, под которым подписался совет Академии в 1817 году, не может быть отменено в 1822.
Он порылся в бумагах и протянул Толстому листок, написанный славянским шрифтом красной краской, с ярко разрисованными разноцветными заглавными буквами, подражание древним летописям.
— Не угодно ли полюбоваться, какой аттестат в свое время выдали этому "батальному живописцу" его товарищи. Наверное, — Оленин презрительно улыбнулся, — он угощал их тогда порядочными "баталиями" в пьяном виде. Сторож принес мне этот найденный им замечательный документ. Правда, аттестат шуточный, но все-таки характерный. Вот, читайте, читайте вслух.
Толстой начал читать:
— "Дан сей аттестат воспитаннику Академии трех знатнейших художеств Александрову Павлу Алексеевичу в том, что оный прошел многотрудную и тернистую стезю…" Что за чепуха? — остановился Толстой и поднял взгляд от бумаги.
Оленин закивал узкой головой и в этом движении стал особенно походить на дятла, долбящего клювом облюбованное дерево.
— Читайте, читайте дальше!
— "…совратился с пути истины и благонравия и предался гортанобесию, чревонеистовству, кичению, аки лютый и необузданный вепрь…"
Толстой опять остановился.
— Дальше прикажете читать этот вздор? Меня гораздо более интересуют здесь талантливые орнаменты виньеток, доказывающие, как изрядно наши воспитанники усваивают византийскую манеру…
— Ах, милый граф! — нетерпеливо перебил Оленин. — Мне не до украшений! Читайте дальше, и вы узнаете доблести того, за кого так усердно заступаетесь.
Набрав в легкие воздух, Федор Петрович начал читать дальнейшее с нарочитым пафосом:
— "Не видя же его, Павла, оборачивающегося на стезю смиренномудрия, но тысячекратно ввергающегося в любопытие, праздношатание, стихобесие, женолюбие, козлопение и козлогласование…"
Федор Петрович не выдержал и расхохотался:
— Пощадите, Алексей Николаевич! Этакого "велеречия" даже моя няня Ефремовна не могла бы слушать, сколь ни любит она древние изречения. Я понимаю, здесь говорится, что обвиняемый любил попеть.
— И попить, — подчеркнул Оленин.
— Совершенно верно. Здесь есть и про это: "Всякое яствие или снедь через меру запивал, аки Левиафан в пучине морской, сопровождая сие гортанное упражнение курением богопротивного зелия, сиречь злосмрадного злака, иже от нечестивых галлов табаком нарицается".
— Не могу больше, — смеялся Толстой, — и все понял. Александров любил выпить, покушать, покурить и спеть лихую песенку. И никого не ограбил!
— Побойтесь бога, граф! Еще этого не хватало! Если бы такое случилось, он сидел бы в остроге. А пока что следует завершить его дело. Решение принято пять лет назад, оно в силе поныне. И должно остаться в силе впредь. Изменять правительственные решения — значит способствовать шатанию закона в его основании. Сомнение и отмена постановлений способствуют шатанию умов. Да-с!..
Разговор был окончен.
Вошел старый, с военной выправкой сторож и доложил:
— К вашему высокопревосходительству бывшей воспитанник Павел Алексеев Александров.
— Впусти, Цыцура! — строго бросил Оленин.
Лицо его разом приняло каменное выражение, углы губ брезгливо опустились, а глаза медленно поднялись поверх входившего.
Толстой вздохнул и стал смотреть в окно.
— Видели фигуру? — кивнул Оленин в сторону не успевшего еще закрыть за собой дверь Александрова. — Полное неумение держать себя. Да он осрамит одним своим поношенным сюртуком все российское художество! Благодарю создателя за дарованную мне твердость, столь необходимую в исполнении моего долга перед государем. Я не поддаюсь слабости снисхождения и уговоров.
Он взглянул на Толстого, подошедшего к приколотому к стене рисунку, восхитившему когда-то всю Академию. Это была давняя ученическая работа еще четырнадцатилетнего Карла Брюллова, оставленная в кабинете президента как пример достижений в системе преподавания. Смелый, безукоризненный штрих превращал академического натурщика в легендарного, символического "Гения". Никому не было дела до того, что ученик, стиснув зубы, рисовал и перерисовывал и снова бессчетное число раз скрупулезно отделывал свою работу.
— Вы любуетесь брюлловским "Гением"? — спросил Оленин. — Да, этот юноша вряд ли подведет монаршее благоволение и нас, его воспитателей. И внешность завидная, и талант. Но дерзок, дерзок! Я жду его тоже сегодня. Вопрос идет о том, чтобы, уезжая за границу, окончившие не теряли академического надзора и вне пределов государства. Таково желание государя и повеление министра…
Толстой плохо слушал.
Вот еще работа Карла — в золотой уже раме: прекрасный юноша склонился над ручьем. Это Агафопод, добытый когда-то учеником Поляковым в торговых банях. Юноша Нарцисс увидел в ручье свое изображение и влюбился в него. Не он ли это сам — девятнадцатилетний автор?.. И Шебуев, строгий академист, создатель анатомического атласа, и не менее требовательный Егоров, и скульптор Мартос, и руководитель Брюллова профессор Иванов — все они наперебой восхищались и гордились автором "Нарцисса", утверждая, что картина — событие в жизни Академии.
Толстой знал, что фоном ей послужил Строгановский сад на Черной речке. Подолгу сидя на скамье, молодой художник, вероятно, наблюдал пронизанную солнцем зелень, ловил солнечные лучи, купающиеся в пруду, и переносился мыслями в напоенную светом Грецию.
Федор Петрович сам был глубоким почитателем греческого искусства. Он понимал мечты юноши, так удачно использовавшего даже лист, упавший с дерева и уносимый течением. Пятно подчеркивало зеркальность воды. А этот чудесный тепло-золотистый тон всей картины!..
— Возрожденная Эллада! — вырвалось у Толстого восторженно.
— И тот, кто написал ее, — подхватил Оленин, — должен теперь и в Италии показать свои успехи, чтобы Академия, а за нею вся Россия гордились им. Он должен оправдать заботы своих руководителей и затраты правительства, как верноподданный своего монарха и сын своего отечества. Но Брюллов не по возрасту самоуверен и не желает больше покоряться. Некая фантазия, под именем "свободы творчества", начинает кружить голову и этому взысканному Академией юноше. Ужасное время! Все жаждут какой-то несбыточной свободы, не сообразуясь со здравым смыслом. А здравый смысл гласит…
Толстой заставил себя слушать. Оленин уже снова вернулся к Брюллову:
— От него мы ждем многого. Получив первую награду за программу "Явление трех ангелов Аврааму", юноша не должен забывать, что его посылают в Италию не зря. Мы ждем от него достойных копий с Рафаэля. Когда время сотрет эти сокровища с итальянских стен, художники всего мира станут приезжать к нам учиться по ним. Вот чего мы ждем от дерзкого юноши Брюллова. А ваш Александров… извините…
Толстой сделал последнюю попытку вступиться:
— Но как можно, ваше высокопревосходительство, оттолкнуть тоже немалое дарование? Взять и бросить его, как лишний сор. Мне кажется…
— Ну полноте, полноте, граф! — По лицу Оленина скользнула снисходительная улыбка. — Вы обладаете чрезмерной гу-манерией. В Академии ходят даже слухи… Простите, вероятно, дружеский анекдот, и только. Будто вы, пожалев какую-то старуху прачку, помогли ей везти на Благовещенском мосту санки с бельем. Я этому, само собой, не поверил.