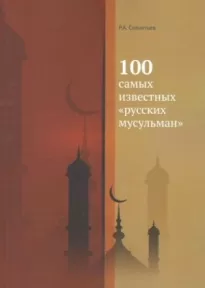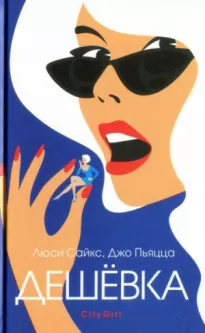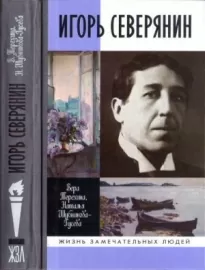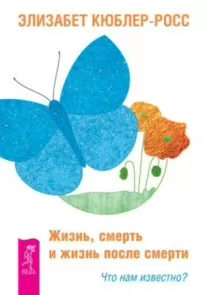Повести

- Автор: Ал. Алтаев
- Жанр: Детская проза
- Дата выхода: 1972
Читать книгу "Повести"
IX. НЕ САМ, ТАК ДРУГОЙ
Пришла весна. В окна угловой комнаты, где жил Сергей, бились набухшими почками ветви старых груш. Зори были малиновые… Лучи солнца, длинные и теплые, томили тело и рождали в сердце грусть. С пригорков в саду давно протекли вешние воды, и обсохшая, согретая земля выбрасывала среди бурой, прошлогодней травы новые ростки и чудесно пахла. По утрам, когда были еще закрыты ставни, в солнечном луче суматошно плясали бесчисленные пылинки.
Сергей любил выходить на заре из дому и бродить по окрестностям. Пробовал, вспоминая прошлое, помогать крестьянам в работе.
Зашел раз на кузницу. Прежде молот бывал для него не тяжел. Теперь он понял, что силы не те и молот не слушается его. Он отошел от горна с печалью в душе.
"Неужели не смогу косить, когда придут покосы?"
Вспомнилось, как любил он в ту пору вдыхать запах свежего сена, смотреть на разноцветные сарафаны в пожнях, особенно яркие и красочные на полдневном солнце.
Раннее утро. Сергей шел к заливным лугам. Там, по нежной еще зелени, в желтых цветах одуванчиков, бродили коровы. Слышалось дрожащее блеяние ягнят. Гулко щелкнул кнут подпаска.
Старый пастух под ветлой у заводи плел лапти. Заводь курилась утренним туманом. До Сергея донесся печальный неприхотливый мотив и грустные простые слова:
Как не белая березонька к земле клонится,
Не зеленые листочки раздуваются,
Не шелковая ковыль-трава расстилается…
Сергей подошел ближе и поздоровался с пастухом.
У самой воды, на камне, сидела девушка-подросток. Бросая в воду желтые цветы, она смотрела, как их медленно уносило течением.
Старик оторвался от лаптя и крикнул:
— Дуня, перестань! Сердце барину надорвешь. Брось, внучка!
— Пусть поет, — остановил его Сергей.
— Блаженная она у нас. Сызмальства так. Только зла в ней нету вовсе, сударь. Ну пой, когда барин велит.
Дуня улыбнулась и продолжала:
Ещё стелется-расстилается полынь горькая,
Ох, и нет тебя горчее во всем чистом поле…
И покачала выразительно головой. Потом сказала, обращаясь к Сергею:
— Песен я знаю много. И про ветер знаю, и про сосенки:
Уж вы, ветры мои, ветерочки!
Вы не дуйте, ветры, на лесочки!
Не шатайте, ветры, в бору сосну, —
И так сосенке стоять тошно…
Охватив руками колени и заглядывая в воду, где кружился, уплывая, последний цветок, она неожиданно заплакала:
— Жалостливая песня… И нет больше цветиков… нет!..
— Перестань, Дунюшка, — заговорил дед. — Поди, я дам тебе лычку, будешь бросать в воду лычки. Не посетуйте на нее, барин, младенческий разум.
Сергея давило одиночество. Он поднялся в гору, к селу, к людям.
Было воскресенье. У церковной паперти нищий гнусаво тянул:
— По-дай-те христа ра-а-ади!..
На скамейке, подле ограды, разодетые по-праздничному, судачили бабы.
Сергей прошел мимо них на кладбище. Кругом обступили могилы с давно покосившимися крестами. Ему стало страшно.
Мучительно потянуло к бодрой, радостной деятельности. Ведь, чтобы начать наконец работать, надо прежде всего почувствовать жизнь. Образ тоскующей у воды девочки он отогнал от себя, как что-то больное, враждебное…
Увидев после обедни на лужайке возле церкви нарядных девушек, собравшихся водить хоровод, он встал в их круг.
Все удивленно расступились. Девицы стыдливо захихикали, закрываясь кисейными передниками. Парни начали выплясывать нарочитые "коленца". Балалаечник прибавил лихости и выставил вперед ногу в новом сапоге с голенищем бутылкой.
Далеко разнесся хоровой напев:
Ой, не пыль в поле запылилася,
Не туман с моря подымается,
Подымалися гуси-лебеди…
Сергей хорошо помнил с детства старинные песни. Он подхватил мотив:
А один-то лебедь оставался…
Голос прозвучал тускло — Сергей не узнал себя. Когда-то он так легко и свободно брал эту ясную, высокую ноту.
Он повадился по зорям летать,
По зорям летать, по заутренним,
Он ко белой-то лебедушке…
Девушки плавно двигались по кругу, а парень-запевала выводил, точно кидая песню в самое небо:
Ой ты, белая лебедушка,
Да и где ж твое тепло гнездышко?
Хор подхватывал:
Мое гнездышко на синем море,
Под ракитою, под зеленою.
Сергей вышел из круга и медленно направился к дому. До него долетел смех и озорной приглушенный окрик:
— А и впрямь, шел бы ты, дедушка, на печку!..
Раннее утро. С шумом открылась ставня окна. И с потоками солнечных лучей в комнату ворвались дети.
Это они, его питомцы. Они его любят. Он им нужен, полезен. Значит, и ему нашлось на земле дело.
Саша вбежал первый, за ним — Вася. Оба взобрались на кровать, теребили Сергея, стаскивали одеяло, тащили из-под головы подушку, мешали одеваться. Он брызгал на них водой из кувшина. Комната наполнилась визгом и смехом.
После чая дети снова прибежали в комнату, началось обычное рисование. Васе давно надоели его кружочки, в которых он научился отмечать точками и черточками нос, рот и глаза человечков. Но Саша усидчивее. Он жадно ловит указания Сергея и старается срисовывать старые гравюры, найденные им где-то на чердаке, как можно тщательнее.
Впрочем, на Сашу иногда находила странная неподвижность. Он мог долго сидеть, уронив карандаш и устремив застывший взгляд то на потолок, то на печку или на стену. Потом вдруг начинал фантазировать:
— Дядя Сережа, смотри: кони мчатся. И колесница Феба… а на ней Фаэтон.
И показывал на пятна штукатурки, на растрескавшиеся и облупившиеся кирпичи лежанки.
Вспоминая давние академические уроки, Сергей часто пересказывал детям отрывки из мифологии Греции и Рима. Саша внимательно слушал, и в душе его рождались незнакомые до сих пор образы.
Крепкий, с широким носом и смышленым взглядом небольших серых глаз, он походил на маленького мужичка. Только рот, небольшой и красивой формы, да освещавшая все лицо улыбка напоминали мать.
Способности к рисованию у него оказались замечательные. С каждым днем он делал все новые и новые успехи. В детской руке карандаш и уголь двигались уверенно, набрасывая твердые и четкие контуры. Копии Саша делал поразительно верно, схватывая на глаз соотношения частей и размеры. Он хорошо рисовал и с натуры. А фантазируя, создавал наивные, но богатые по замыслу картины: дворцы, экзотические пейзажи, людей в небывалых одеждах. В неумелых портретах его можно было узнать того, кого он хотел изобразить.
Сергей смотрел на его рисунки и думал:
"Для меня все кончено. Я уже не творец. Мысль стала вялой. Творчество заменилось шаблоном. Моя мечта не осуществилась, погибла… Но я сделаю настоящего художника из этого малыша. Он — кость от кости крепостных, как и я. Только у него не будет моей участи: Елагин сделает его свободным. И мальчик даст искусству то, чего не смог дать я".
Сергей крепко сжился с Петровским и решил оставаться здесь, пока будет можно. Ему даже казалось, что его жизнь до Петровского была сном, что настоящая, реальная жизнь началась только в этом старом доме. Учитель рисования — вот его профессия. Разве плохо быть учителем?
Общая вялость и потеря веры в собственное дарование усилились в Сергее и благодаря спиртным напиткам. Он не заметил, как втянулся в дурную привычку. Былые одна-две рюмки обратились в постоянный стаканчик. Он пил утром, пил днем, пил вечером водку, коньяк, ром или херес, что подставлял ему под руку Елагин. Советы Тропинина перестали звучать укором, забылись, затерялись в отуманенной алкоголем памяти.
Когда на Елагина нападало особенно чувствительное настроение, он брался за скрипку.
— Сашка! — кричал он. — Иди сюда скорее! Эй, Марья, Дарья, кто там есть, Сашку сюда!
Прибегал Саша. Отец совал ему в руки инструмент.
— Играй! Веди, веди смычком. Я буду тянуть ноту, а ты веди. Слышишь ноту: а-а… а-а-а… а-а…
Смычок неловко скользил в руке мальчика. Струна только сипела, из музыкальной пробы ничего не выходило.
— Эх ты, балбес! Ну садись, слушай. Может, и дойдут до тебя ангельские вздохи…
Прижавшись щекой к инструменту, он начинал играть. Смычок судорожно вздрагивал: звуки получались обрывистые, трепещущие…
Напряженными, внимательными глазами Саша смотрел на отца. Потом оборачивался к Сергею и шептал:
— Ветер… воет… скрипит дерево…
— Дурак ты, Сашка! — Елагин раздраженно бросал скрипку на пол. — Дерево? Это адажио Бетховена!
Сергей спешил поднять инструмент.
— Не разбилась ли, Алексей Петрович? И то: колки выскочили и на деке, кажется, трещинка. А мальчик по-своему верно понял: ветер, буря… Возьми, Саша, карандаш, нарисуй бурю.
Детская рука набрасывала речку с волнами. Над нею, на обрыве, растрепанные, гнущиеся книзу ветви развесистого дерева.
Елагин отнимал руки от лица, смотрел на рисунок и страстно притягивал к себе сына:
— Ты тоже кое-что смекаешь, мальчуган. И, ежели захочешь, далеко пойдешь. Съезжу-ка я в город, насчет бумаг разузнаю да насчет школы. Учить тебя надобно. А пока дядя Сережа вот занимается. После и в Академию можно будет. Бумаги я обязательно все должен выправить: вольную детям… и все этакое… Наследники мои! Немного же вам после меня достанется. Разорено Петровское, оскудел помещик. Да все же будете оба вольные и на хлеб себе легче сумеете заработать. Только вот дворянскую фамилию не смогу, пожалуй, передать, хлопот слишком много… Мне, забулдыге, у государя не выпросить вам своей фамилии. Нет! Видно, владеть вам лишь одной половиной ее. — Он горько рассмеялся. — Послушай, Сережа. Я — Елагин потому, видно, что всегда был по горло сыт, всегда ел, и имение своё проел. А они, может, и голодными еще насидятся. И будет им, детям моим, фамилия только — Агины.
Елагин осматривал свое хозяйство. Зашел в полутемную конюшню, с наслаждением вдохнул знакомый запах: смесь сена, конского пота и навоза. Запах напомнил ему молодость, кавалерийские разъезды. Послышалось ржание жеребенка.
— Ишь, барин, давно ли народился, а уж вам голос подает, — с умилением сказал конюх, — знать, хозяина признает, шельмец! Смышленый, весь в матку.
Кобыла хрустела сеном. Она подняла голову и радостно запрядала ушами, скосив темный глаз. Сколько времени ее не седлали! Елагин ласково потрепал лошадь. Жеребенок ткнулся ему в колено мягкой, бархатистой мордой.
— Рыженький… Как назвали его, Силантий? — спросил помещик.
Конюх гордо ответил:
— Чистых кровей: от Вьюги и Терека, барин.
— Знаю, что от Вьюги! А она все такая же. И не стареет совсем. — И погладил крутую шею лошади. — Как звать, спрашиваю, жеребенка-то?
— Кобылка, барин. Назвали "Параня".
Елагин кашлянул и хмуро отозвался:
— Не очень-то "чистых кровей" была моя Параня… Ну, да все равно. Па-ра-ня! — повторил он, словно прислушиваясь. — Силантий, ты мне оседлай Вьюгу через час.
— Слушаюсь.
Елагин пошел к скотному двору.
Со вчерашнего дня он был взволнован. В Новоржеве, куда он ездил по делу освобождения сыновей от крепостной зависимости, узнались большие новости. О них в присутственных местах говорили шепотом, озираясь по сторонам. Из столицы до маленького городишки донеслась весть о судьбе декабрьского восстания. Правду мешали с вымыслом. Но Елагин все-таки понял, что участники "бунта", о которых ему рассказывал Сергей, все почти люди из знати, давно сидят по казематам. Над ними назначен строжайший суд, и кончится он для главных зачинщиков, наверное, казнью, а для остальных — каторгой и ссылкой.