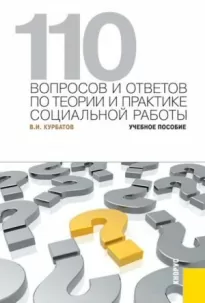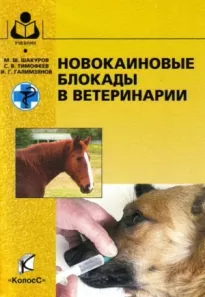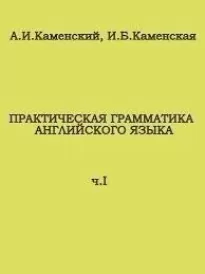Тоталитаризм и вероисповедания
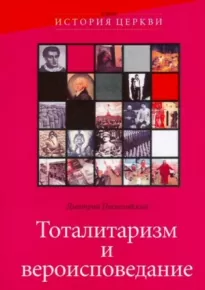
- Автор: Дмитрий Поспеловский
- Жанр: История: прочее
- Дата выхода: 2003
Читать книгу "Тоталитаризм и вероисповедания"
Почвой для японского национал-социализма был традиционный коллективизм, чуждость традиций
262
индивидуалистического либерализма. Как и в русской славянофильско-монархической традиции, государство воспринималось как семья, главой которой был «государь-батюшка», а в японском варианте земной бог-император. Корни этой традиции были, конечно, в деревне, в сельском образе жизни, поэтому военные японские национал-радикалы так «ухаживали» за селом. Стремясь к уничтожению парламентско-партийной системы, они в 1930-е годы начали выделять средства и кадры для улучшения медицинского обслуживания села, сельского школьного дела и социальной защиты беднейших крестьян[5].
В 1936 году был новый взрыв терроризма, вернее, террористы Кода-ха совершили попытку государственного переворота. 26 февраля почти полторы тысячи солдат под командой офицера захватили ряд государственных зданий, в том числе Военное министерство и главный штаб полиции, находившийся рядом с императорским дворцом. Затем они отправились на поиски национально-консервативных государственных деятелей — противников революционных действий. Тут же убили троих из них. Затем было убито еще несколько человек. При всем при том к императорскому дворцу не было приведено никаких дополнительных войск — бунтовщики действовали не против священной особы императора, а против его «злых советников». Наоборот, их идеей было «восстановить власть императора». Члены правительства, особенно военный министр, тайно сочувствовали бунтовщикам или просто боялись их. Во всяком случае, не было официального заявления правительства с осуждением убийц. Тогда вмешался непосредственно император. Он приказал в течение часа подавить бунт, арестовать участников и предать их строгому суду. По требованию императора было объявлено военное положение. Бунт был подавлен, и после недолгого судебного процесса 17 зачинщиков бунта были расстреляны. Этим был положен конец попытке установления национал-социалистической диктатуры снизу. К власти пришли деятели Тосеи-ха: фашизм, или национал-социализм, был введен сверху новыми
263
властями. 26-27 февраля 1932 года можно сравнить с гитлеровской «ночью длинных ножей» 1934 года, но с той существенной разницей, что зачинщики резни в Японии были осуждены, и никто в парламенте их не благодарил за содеянное в отличие от немецкого Рейхстага.
Более того, позднее в том же 1936 году на парламентских выборах победил избирательный единый блок двух центристских партий, получив 354 из 466 мест. Это говорит кое-что о подлинных настроениях японских избирателей. Национал-социалистическому правительству, нехотя и сопротивляясь, пришлось уйти в отставку. Но хрен редьки не слаще: к власти пришел князь Коноэ, политическая обстановка стабилизировалась, но в сторону крайне националистического военно-бюрократического строя, который можно назвать фашистско-милитаристическим с элементами корпоративизма. В 1937 году Япония окончательно ввязалась в необъявленную войну против Китая, что противоречило идеям старых консерваторов, таких как Нагаи, мечтавший о сближении с Китаем и о роли Японии в качестве защитника Китая и вообще Дальнего Востока от белого империализма. Правда, идеологи Соуа-исин называли это не войной, а процессом освобождения Китая от власти западного империализма. Миссией японского кооперативизма (разновидность корпоративизма. —Д-П.) является создание «новой восточно-азиатской культуры всемирного значения... Философия кооперативизма спасет Японию, Восточную Азию, а быть может, и весь мир. Классы ... превратятся в функционально-профессиональный порядок», индивидуальные права будут принесены в жертву благополучию высшего целого — всей Японии. В ноябре 1937 года премьер-министр Коноэ заявил по радио, что военной целью Японии является установление нового порядка мира на Дальнем Востоке, что Япония стремится к сотрудничеству, а не к завоеванию Китая, к защите его от коммунизма. Япония готова сотрудничать с правительством Чан Кайши в перестройке Китая. «Япония вступила в новую стадию творчества во всех областях человеческой жизни»[6].
264
В 1936 году Япония заключила антикоминтерновский пакт с нацистской Германией. В 1937 году была фактически ликвидирована многопартийная система, а в 1940 году было ликвидировано движение Соуа-исин, а также фактически был отменен и парламент. А через год был Пирл Харбор — Япония вступила во Вторую мировую войну. Как указывает американский историк Патерсон, по сравнению с Америкой и передовыми странами Европы Япония была отсталой и нищей страной. Промышленность и заводы были отсталыми, малопродуктивными, квалифицированных рабочих было очень мало. Даже потребление населением продуктов питания лишь на 6 % превышало норму, необходимую для элементарного поддержания жизни (выживания) человека. Может, из-за этого — в надежде на заморские богатства — в народных массах вступление Японии в войну было встречено с беспрецедентным энтузиазмом. Япония, как ни парадоксально, вступила в войну не в условиях изобилия запасов, необходимых для ведения войны с такими мощными странами как США и Великобритания, а из-за нехватки самых необходимых стратегических материалов — нефти, стали, угля и даже риса, 20 % которого Япония вынуждена была импортировать — и из-за неспособности конкурировать с Америкой в наращивании самолетов, кораблей и боеприпасов. Логика сторонников войны была от обратного: через год, два разрыв между нами и Америкой будет еще большим — рассуждали они — а тут есть хоть надежда прорваться в Индокитай, Филиппины и Индонезию для получения сырья.
Незадолго до начала войны бывший японский посол в Италии Тосио Сиратори с гордостью писал: «Волны либерализма и демократии, которые не так давно наводняли нашу страну, теперь отступили. Широко принимавшаяся недавно теория государственного управления, которая считала парламент подлинным центром власти, теперь полностью отброшена, и наша страна быстро двигается к тоталитаризму, как основному принципу японской национальной жизни последних тридцати столетий. Для восточных народов речь идет ... о возвращении к древней вере ... сердце согревается от ...того, что идеи,
265
которыми питались наши народы веками,... воплощаются в системах современных государств Европы»[7]. Торжествовать Сиратори оставалось всего 7 лет. Да и в эти 7 лет увидеть подлинный тоталитаризм Сиратори не удалось. Не было в Японии массовой единой партии, как в коммунистических странах, нацистской Германии и фашистской Италии. Власть была военно-бюрократической. Да, в 1937 и 1938 годах были арестованы ученые и профессора, связанные с коммунистами, Рабоче-крестьянской фракцией (те же коммунисты). Арестованы также руководители Национального союза профсоюзов и члены Японской пролетарской партии. В 1940 году официально закрыты и запрещены все политические партии. Вместо них были созданы Ассоциация содействия императорской власти и Ассоциация «Служи великой Японии через промышленность». Коноэ понял, что политическая нестабильность Японии происходит от отсутствия стабильного народного движения-партии, на которой могло бы основываться правительство. И он попытался создать некое Движение за новый порядок. Само название напоминает нацизм. Но движение натолкнулось на «глыбу» имперской власти и превратилось в некую группировку политико-нравственного характера. Ничего не вышло и из попытки создания Молодежного корпуса наподобие гитлеръюгенда. Наконец в 1942 году единственной легальной общественно-политической организацией оказалась вышеназванная Ассоциация содействия, которая массовым движением так и не стала. Провал попыток создания массовой единой правительственной партии, а также отсутствие концлагерей и массового государственного террора в имперской Японии, даже в военные годы, показывает, сколь велика была пропасть между германским нацизмом и даже итальянским фашизмом, с одной стороны, и их японским вариантом, с другой.
Да, вариантом германского национал-социализма или итальянского фашизма Японию 1930—1940 годов назвать можно, но вот был ли этот режим тоталитарным, как утверждали сами
266
японские радикалы, остается под вопросом. И уж, во всяком случае, тоталитаризм не мог существовать в Японии 30 столетий, как пишет Сиратори, ибо, как мы уже говорили, для достижения тотального или почти тотального контроля за населением необходима техника и электроника XX века.
Но вспомним, чем определяется наличие тоталитаризма и отсутствие оного в довоенной и военной Японии — идеологией, охватывающей все стороны человеческого бытия. Было ли это в Японии? На самом деле попытка создания такой всеохватывающей идеологии не удалась в значительной степени благодаря отсутствию единой диктаторской партии (это уже второй фактор тоталитаризма). В Японии, как мы видели, наличествовали кружки заговорщического и даже террористического характера, но единой массовой партии не было. Была политиканствующая армия, путавшая политику, государственное управление и военное дело. Террор был, но он не был всеохватывающим и последовательным, и его целью не было уничтожение тех или иных классов, наций, рас (были распространены убийства корейцев, на которые правительство смотрело сквозь пальцы, но это не было государственной акцией[8]).
Тотальная централизованная монополия средств информации осуществлена не была, во всяком случае, до 1940 года. Централизованное бюрократическое планирование вызывало симпатии и сочувствие японских радикалов всех мастей, но полностью осуществлено не было. Частные концерны, заводы, землевладение и банки сохранялись до конца. Последними и очень важными чертами тоталитаризма, как мы знаем, должны быть: 1) пародия на демократию, то есть претензия на то, что власть исходит от воли народа, от народного суверенитета; и 2) обещание утопии.
267
Первого фактора вообще не было: источником власти была священная персона императора, а не народный суверенитет. Мечту японских национал-социалистов стать вождем и освободителем Дальнего Востока от западного империализма и колониализма утопией назвать трудно, так как в принципе это могло стать реальностью при более деликатной и не открыто захватнической политике. В конце концов отчасти эта мечта осуществилась в сегодняшней Японии. Но даже если назвать ее утопией, она ничего не имела общего с античеловеческими утопиями коммунистов и немецких нацистов — и те, и другие собирались создавать нового человека, уничтожая человека реального, не подходящего под мерку их утопий. Наконец, хотя японские националисты жаловались, что Запад принес им чуждые японской культуре учения: с одной стороны, марксизм, с другой, христианство, и призывали к возрождению традиционного японского язычества (смесь синтоизма с буддизмом) — в японской модели национал-социализма отсутствует характерная для тоталитарных доктрин религиозная нетерпимость. Даже в условиях крайнего обострения национализма накануне Второй мировой войны и во время ее, все, что японское правительство предприняло по отношению к занесенным западными миссионерами христианским религиям, — это введение законодательства по «японизации» этих религий. Закон 1939 года объявил христианство, синтоизм и буддизм официальными религиями Японии, подлежащими государственному контролю. В связи с этим руководство всех этих религий должно было состоять из японцев. Так, Русская православная миссионерская епархия Японии была в 1940 году переименована в Японскую православную церковь. Возглавлявший ее архиепископ Сергий должен был уйти на покой, и на его место был избран японский православный священник Иоанн Оно. В 1941 году супруга его постриглась в монахини в русском монастыре в Манчжурии, а о. Иоанн был пострижен в монахи под именем Николая и хиротонисан в Епископа всея Японии.