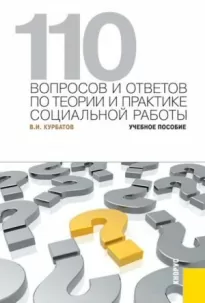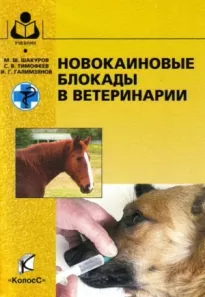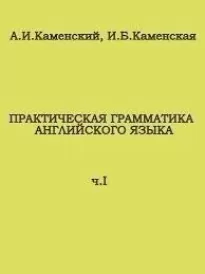Тоталитаризм и вероисповедания
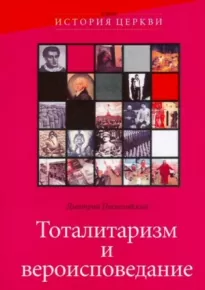
- Автор: Дмитрий Поспеловский
- Жанр: История: прочее
- Дата выхода: 2003
Читать книгу "Тоталитаризм и вероисповедания"
Пиренейский полуостров
Как мы уже сказали, тенденция к фашизму и тоталитаризму была характерна для всей Европы 1930-х годов. Что касается Западной Европы, то партии нацистского типа пришли к власти только в тех странах, которые были оккупированы Гитлером, и только после оккупации этих стран. Но Гитлер был слишком узко-фанатичным националистом, чтобы создать некий нацистский интернационал даже в расово близких Германии странах. Нацистских вождей Голландии, Бельгии, Норвегии[1] он использовал как простых проводников в жизнь приказов германских нацистов.
291
В Западной Европе единственными исключениями были Испания и Португалия, в которых режимы Франко и Салазара были смесью фашизма с консервативным авторитаризмом. Режим Салазара в Португалии отличался от режима Франко разве только тем, что был более реакционен, и те реформы, которые проводились в Испании еще при Франко, в Португалии должны были ждать смерти Салазара. Португальский крайне реакционный национализм, опиравшийся на традиционные правящие классы Португалии, назывался Лузитанским интегрализмом. Монархия в Португалии была свергнута в 1910 году, а в 1926 неким генералом Кармоной был совершен переворот и установлена обыкновенная военная диктатура. Кармона пригласил профессора экономики Салазара на пост министра финансов. Салазар потребовал для себя чрезвычайных полномочий, привел финансы в порядок. В 1932 году он стал премьер-министром, а в 1933 провозгласил первую корпоративную конституцию (на год раньше Италии). Кроме правильного бухгалтерского учета, Салазар никаких положительных реформ не проводил, но установил очень жесткий полицейский террор с пытками и прочими «прелестями». К моменту смерти Салазара Португалия отличалась самой высокой пропорцией неграмотных — более 60% и одним из самых низких уровней жизни в Европе.
Испания не принимала прямого участия в Первой мировой войне, но война все же ее коснулась. Она посеяла раскол в нации: ее вооруженные силы, аристократия, помещики и церковь симпатизировали Германии; либералы, интеллигенция, деловой мир, левые партии и король Альфонс XIII были на стороне Антанты. Англии участие Испании в войне было бы невыгодно, ибо в качестве компенсации она должна была бы вернуть ей Гибралтар. Германии участие Испании в войне на ее стороне было тоже нежелательно: из-за внутреннего разделения на про-и антигерманские лагеря вступление Испании в войну могло вызвать гражданскую войну, и Германии
292
пришлось бы распылять свои силы, «спасая» Испанию. Кроме того, Испания была в промышленном смысле отсталой страной, поэтому она мало пользы принесла бы союзникам в качестве страны воюющей. Нейтральная же Испания была отличным полем для германского шпионажа, поскольку она была важной сырьевой базой, а в Барселоне находились оружейные заводы, снабжавшие Антанту. В связи с этим Испания стала полем интенсивного немецкого шпионажа и саботажа, чему содействовали ее консервативные прогерманские круги.
Не способствовал единству Испании и ее король — человек поверхностного воспитания в духе французских салонов, который говорил, что на стороне Антанты только он и каналии, имея ввиду капиталистов, буржуазию, либеральную интеллигенцию и их политические партии. Такие эпитеты вряд ли способствовали популярности короля и монархии среди названных кругов.
В отличие от своего северного соседа Испания не сумела интегрировать свои различные районы, каждый со своим говором. Речь идет не только о диалектах, среди которых некоторые ближе к португальскому, чем к кастильскому классическому языку, но и о таких совершенно отдельных языках, как баскский и каталонский. Конфликт между централистами и федералистами продолжался почти весь XIX и значительную часть XX столетий. К этому следует добавить огромные экономические контрасты, например, между бедной крестьянско-помещичьей Андалузией и промышленно-развитой и благополучной Каталонией. В XIX веке Испания прошла через две кровавые гражданские войны — 1833-1840 и 1870-1876 годов. Карлисты, названные так по имени своего претендента на престол, Дона Карлоса, оспаривали законность правящей королевской ветви и в своей борьбе были беспощадны: всех пленных убивали и использовали жен и дочерей противника в качестве живого щита. Их поддерживали Католическая церковь и крестьяне Северной Испании. Карлисты воевали за восстановление инквизиции, уничтожение либералов и масонов. В своей борьбе против века машин они разрушали железные дороги и газовые фонари, как Дон Кихот, боровшийся с ветряными мельницами. Свое движение они
293
характерно называли не партией, а коммунионом, труднопереводимое слово, которое можно перевести и как община, и как причастие, и как приобщение.
В самом конце XIX и начале XX столетий модернизованный карлизм выступал за децентрализацию и ограничение абсолютизма в стиле просвещенного деспотизма, но и с намеками на корпоративность. По их схеме власть короля должна быть ограничена Советом, состав которого назначается королем, но однажды, приняв его рекомендации, король обязан им следовать. Помимо Совета, который должен был исполнять как бы функцию верхней палаты, карлисты предлагали вместо парламента создать ассамблею сословий, деловых интересов и регионов, которые должны обсуждать законопроекты по корпорациям, втайне друг от друга, пока каждая корпоративная группа не вынесет своего решения, после чего, вероятно, должна была бы быть выбрана согласительная комиссия для выработки окончательного решения. Члены ассамблеи должны были предлагаться соответствующими местными учреждениями с соблюдением принципов федерализма и автономии.
«Руководящим принципом нации должно быть абсолютное подчинение папе Римскому и абсолютная преданность королю»[2]. Эту идею можно назвать протофашистской, обогнавшей даже Муссолини, с той лишь разницей, что фашизм последнего был абсолютно секулярным. Клерикализм и проповедь широкого местного самоуправления отличают карлистов и от всех форм современного тоталитаризма.
Историки говорят, что Испания вступила в XX век прямо из позднего Средневековья, даже Ренессанс в Испании ограничился почти исключительно областью искусств. Коротко говоря, представьте себе Московию XVII века без Петра Великого, вошедшую прямо в век XX. Именно так было с Испанией — у нее не было своего Петра, и она вошла в XX век прямо из XVI. Сравнения можно продолжить. Бердяев говорил, что в России политические идеи приобретают религиозно-догматический характер. То же самое английский историк
294
Бренан говорит об Испании первой половины XX века, которую он называет модернизованным средневековым государством: каждое ее общественное и политическое движение приобретало религиозные черты, даже в виде непримиримой борьбы испанских анархистов против церкви (как антирелигиозный фронт в СССР). Не пройдя через петровскую секуляризацию, Испания развивалась как церковно-подчиненное в основном эгалитарное общество, которое относилось с пренебрежением к материальному богатству и личной карьере в жизни, с сильным чувством общности и очень слабыми понятиями об индивидуальных правах и неотчуждаемости частной собственности. Героика самопожертвования, смерти, популярность побежденных в борьбе с государством или с сильными мира сего, — характерные черты испанского общества. Например, в 1910—1917 годах популярность социалистов очень выросла, когда они проигрывали одни выборы за другими, ввиду того, что либералы, находившиеся у власти, фальсифицировали результаты выборов. В 1917 году кровавое подавление стачки, организованной социалистами, вызвало немедленно бурный рост рядов пострадавшей партии. Любое движение сопротивления властям, подавленное ими, превращает поражение в победу. Это черты христианского сочувствия гонимым и обижаемым.
Чувство неприкосновенности частной собственности в Испании был ненамного крепче, чем в России. Так, в XVII веке в Испании обсуждался вопрос национализации земли, а крестьянские общины дожили в Испании до XX века, как в России. Классический испанец, по словам Бренана, скорее будет тратить свои средства на кутежи и женщин, чем вкладывать их в акции, либо посвятит жизнь своим идеалам, ведя почти аскетический образ жизни. Религиозными по духу были, например, анархические профсоюзы, которые требовали от своих членов, особенно во время забастовок, воздержание от алкоголя и посещения всевозможных увеселительных мест. Во время Гражданской войны 1936-1939 годов анархисты, захватив Барселону, занялись нравственной очисткой города — закрытием борделей, перевоспитанием проституток — и ... физическим разрушением храмов, массовыми расстрелами духовенства и монашества обоих полов. Испанский
295
анархизм был религиозно-воинствующим атеистическо-пуританским движением[3]. Одной из причин популярности и успеха анархических профсоюзов было то, что их руководители не получали зарплаты, у них не было стачечных фондов, и поэтому их забастовки были актом самопожертвования. Социалистические и католические профсоюзы платили зарплаты и материально поддерживали забастовщиков, зато популярностью они не пользовались.
Наряду с этим недавняя испанская история полна жестокостей, насилия, кровопролитий и террора как со стороны левых, так и правых движений. В абсолютистском мышлении испанца не было места диссидентству. Как и его далекий русский собрат, испанец считал, что существует только одна правда, и поэтому не может быть места человеку, исповедующему другие идеи. Такой человек рассматривался как еретик, опасность которого в том, что он может заразить своей ересью другого[4]. Поэтому он должен умереть, а быть убитым за идею — честь, а не позор. Во всем этом можно проследить диалектику, с одной стороны, тоталитаризма, а с другой, противоядия таковому, ибо если господствует своеобразное безразличие к смерти и популярность гонимых и побеждаемых, то захватившие власть изначально обречены. В этой национальной характеристике, возможно, и кроется главная причина иссякания диктатур в истории Испании, например диктатуры генерала Примо де Ривера (1923-1930) и даже генералиссимуса Франко, которая хотя и длилась 39 лет — с 1936 до 1975, — однако черты тоталитаризма в ней иссякли лет за 20 до физической смерти диктатора.
Итак, мы подошли к испанской Гражданской войне. Все началось, можно сказать, со сложения карлистами оружия в начале XX века, когда типично по-испански все жестокости гражданских войн были забыты, и карлистские офицеры
296
были приняты в испанскую армию в сущем чине. В результате в 1922 году было по генералу на 100 солдат и по офицеру на 6 солдат. Насколько обременительно для государственной казны была такая масса офицеров, говорит то, что в 1936 году, когда началась Гражданская война, у Испании не было ни одного танка. Чтобы как-то существовать в век профсоюзов, испанское офицерство организовало собственный профсоюз и занялось частным предпринимательством: захватило монополию на строительство дорог, а затем брало плату с людей, пользующихся этими дорогами, продавало оружие марокканцам, против которых Испания вела войну. При всей нищете и коррупции испанский офицер помнил, что он принадлежит к благородному ордену, который не так давно распоряжался политиками и долг которого — защищать отечество от коррумпированных политиков и особенно от всевозможных интернационалистов-безбожников.