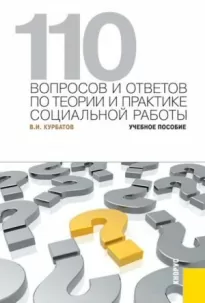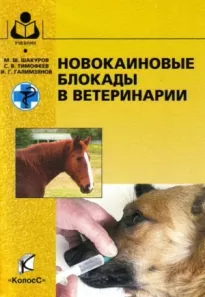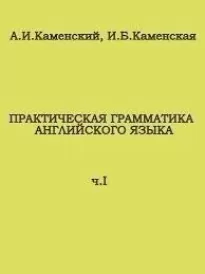Тоталитаризм и вероисповедания
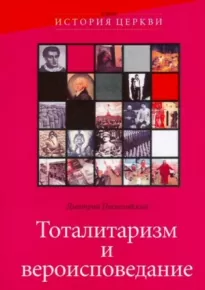
- Автор: Дмитрий Поспеловский
- Жанр: История: прочее
- Дата выхода: 2003
Читать книгу "Тоталитаризм и вероисповедания"
Глава 27. Ислам и тоталитаризм
«Во имя Аллаха милостивого, милосердного ...А когда вы встретите тех, которые не уверовали, то — удар мечом по шее; а когда произведете великое избиение их, то укрепляйте узы» Коран 47:1, 4. Нью-Йорк, «Телекс», 1989
543
В этой обобщающей главе об исламе, речь в основном пойдет о суннитах как самой большой и господствующей ветви ислама. На шиизме мы остановимся в следующей главе, в основном в контексте нынешнего тоталитарного режима в Иране.
Несколько лет назад на страницах самой влиятельной газеты Канады «The Globe and Mail» шла дискуссия относительно ислама и христианства. Один из авторов сравнивал терроризм исламского фундаментализма со зверствами инквизиции и крестоносцев, погромами евреев, изгнанием и частичным физическим уничтожением арабов в Андалузии. Апологеты христианства отвечали, что разница между мусульманством и христианством в том, что преступления христиан совершаются вопреки учению Христа, в то время как исламский террор всегда может найти себе оправдание в текстах Корана. Казалось бы, цитата, приведенная в эпиграфе этой главы, подтверждает мнение критиков ислама. Однако апологеты ислама делают упор на другой цитате из Корана: «Нет насилия в религии». Это изречение можно понять двояко: как запрет на насилие вообще или как запрет на насилие по отношению к тем, кто уже «в религии», то есть к правоверным мусульманам. Что же касается ренегатов ислама или иноверных, оказывающих сопротивление исламу, либо пытающихся заниматься прозелитизмом, то в отношении их
544
не только допускается, но и предписывается насилие[1]. Сопротивление распространению ислама именуется мятежом (фетна) и карается смертью[2].
На самом деле Коран весьма противоречив. Исламоведы указывают на хронологическую и тематическую непоследовательность Корана: события более раннего периода из жизни Магомета следуют за событиями более позднего времени. Например, стихи, посвященные фактически одному предмету — молитве, религиозным ритуалам, нравственности, личной жизни и семейным отношениям, — разбросаны в беспорядке в разных частях Корана вперемежку со стихами политического или исторического содержания. Так, первый стих откровения Магомету — «Читай [Коран] во имя Господне» — находится не в первой суре, а в 96-й. Последний стих Корана, произнесенный Магометом, якобы перед самой смертью, помещен в суре «Стол», открывшейся Магомету за 5 лет до его смерти. И из-за веры в то, что тексты Корана поступали Магомету в виде откровения — как объяснить такую хаотичность Божьего откровения? — мусульманские экзегеты, по-видимому, не решаются упорядочивать священные тексты. Факт тот, что почти за полторы тысячи лет существования ислама не было ни одного критического его пересмотра мусульманскими законодателями или судьями, хотя правильность текста Корана весьма проблематична. Дело в том, что Магомет устно излагал являвшиеся ему в виде откровения тексты своим ближайшим последователям. Некоторые из них запоминали суры целиком либо частично, другие
545
записывали их на камнях, пальмовых листьях или шкурах. Арабский шрифт в то время не имел точек под и над буквами, которыми пользуются теперь для обозначения гласных и иных звуков, не имеющих непосредственного буквенного обозначения. Поэтому за теми же знаками могли стоять совершенно разные слова. Следовательно, многие тексты могли иметь иной смысл, чем тот, что им придается теперь, и многое при чтении Корана просто непонятно и нелогично. Суры были собраны воедино уже после смерти Магомета, в правление халифа Отмана ибн-Аффана (644—656), создавшего редакционную комиссию по сбору всех сохранившихся в памяти или в записях сур в единую книгу[3]. Ввиду вышесказанной беспорядочности и непоследовательности текстов напрашивается вывод, что члены той комиссии были весьма некомпетентны.
Помимо Корана, ислам обладает еще собранием всевозможных высказываний, приписываемых Магомету, якобы сохраненных его последователями и собранных в сборники «Сунны» и «Хадисов» в IX-X веках Аль-Бухари и его учениками. Магомету приписывалось 600 тысяч изречений. При всей авторитетности изречений Магомета для мусульманина эти тексты не обладают священной неприкасаемостью в отличие от текстов Корана, и поэтому мусульманские судьи или законники[4] позволяют себе анализ и «чистку» текстов «Сунны» и «Хадисов», но не Корана. Бухари признал лишь 5 тысяч изречений подлинными. В дальнейшем либеральные мусульманские ученые сократили их численность до 300. Итак, разногласия между мусульманскими законниками относительно подлинности текстов «Сунны» и «Хадисов» так велики, что отказ современных мусульманских законников подвергнуть их экзегетическому исследованию и отредактировать единый авторитетный сборник не может найти себе оправдания,
546
как считает исламовед Чамиех. Эти сборники в значительной степени являются комментариями к Корану, разъяснениями и дополнениями к нему, и отсутствие общепризнанного канонического издания их вносит разноголосицу и хаос в исламоведение.
Здесь уместно сделать некоторые сравнения с христианством. Как известно, до установления канонических текстов Нового Завета в IV веке существовало несколько десятков «евангелий». Но в отличие от мусульманства, не имеющего авторитетной иерархии, у христиан существовала Церковь, основанная Христом и порученная Им апостолам. От апостолов, через совершаемые ими рукоположения, произошло христианское духовенство, и явилась, с одной стороны, регулярная преемственность, с другой — иерархия: диаконы, занимавшиеся в основном благотворительностью и бывшие помощниками пресвитеров, и епископы — прямые преемники благодати от апостолов и их преемников. Вся эта иерархия опиралась на принцип соборности, на соборный голос Церкви как собрания духовенства и мирян. Первым был апостольский собор в I веке, о котором мы знаем очень мало, но ему приписываются первые церковные правила-каноны. Из-за гонений, продолжавшихся до легализации Христианской церкви в начале IV века, общецерковных соборов не могло быть. Но, начиная с IV века, на Вселенских соборах разрабатывается и утверждается догматика — учение Церкви, являющиеся выводами из содержания и смысла канонических Евангелий и принимающие также во внимание сложившееся устное предание, идущее от апостолов[5]. Это и была та авторитетная церковная структура, которая занялась исследованием
547
ходивших по рукам списков, ново-и ветхозаветных, приписывавшихся разным пророкам, апостолам и даже самой Деве Марии. И вот несколько десятков списков были признаны апокрифами, то есть тайными, сокровенными, подлинность авторства и содержания которых оспаривалась.
Признание текстов каноническими (четыре Евангелия, то есть «Благие вести», 21 апостольское послание и «Откровение Иоанна Богослова») было основано на текстологическом анализе, установлении смысловой и текстуальной связанности между ними, близкого по духу и по содержанию изложения одних и тех же явлений, событий и слов Христовых. С другой стороны, апокрифы были отвергнуты как несоответствующие или очень отдаленно приближающиеся к текстам, признанным каноническими. Апокрифы изобилуют беспричинными чудесами, скорее напоминающими сказку и не имеющими поучительного смысла[6], в то время как в канонических Евангелиях и Посланиях все действия Христа, в том числе и чудеса, глубоко осмыслены и поучительны; они сверхъестественны, а не противоестественны. Согласно исследованиям серьезных экзегетов, да и указаниям в некоторых апостольских посланиях, евангелисты были современниками Христа. По крайней мере евангелисты Матфей и Иоанн знали Христа лично (евангелист Иоанн и апостол Иоанн это, по-видимому, одно и то же лицо). Лука же сам говорит, что он пишет на основании рассказов очевидцев земного жития Христа, «исследовав все с самого начала ... так как уже многие взялись за составление повествования о совершившихся среди нас событиях»[7].
548
Попробуем теперь сравнить эту раннюю историю христианства с соответствующим периодом в зарождении и ранней истории ислама. Казалось бы, тут много общего. Магомет родился в 570 году, а умер в 632. Как и Христос, Магомет передал своим ученикам только устную проповедь. Весь корпус устного и частично письменного наследия Пророка (то, что было записано его учениками и собрано по распоряжению первого халифа ибн-Аффана при всех вышеупомянутых недостатках письменности того времени) был собран к первой половине X столетия, то есть и тут и там речь идет о трех столетиях. Но если кодификация христианского учения совершалась соборным голосом всей Церкви, то в исламской традиции ничего подобного нет. Магомет был абсолютным диктатором и военным вождем, уложившим во множестве битв тысячи жизней. Боевой клич Магомета к бедуинским племенам Аравийского полуострова был: «Принимайте ислам, чтобы избежать смерти!». Иными словами, пишет Чамиех, «часто арабы вынуждены были принимать новую религию, не зная, что это такое ... и признавать Магомета пророком, не зная, в чем заключается его миссия. Все, что требовалось, это громко провозгласить: «Нет иного бога, кроме Аллаха, и пророка Его Магомета!» и согласиться уплатить налог в знак послушания и лояльности, чтобы считаться частью мусульманской общины (умма)»[8]. Такова была «проповедь» мусульманства с первых его дней и до завоевания им всего Среднего и Ближнего Востока, Северной Африки, значительной части Испании и Балкан. Вряд ли стоит еще доказывать несовместимость этой «проповеди» мечом и огнем с проповедью Христа и посланиями апостолов.
14-й стих 49-й суры Корана говорит: «Сказали бедуины: "Мы уверовали!". Скажи: "Вы не уверовали", но говорите: "Мы покорились"». А Христос говорит: «Познаете истину, и истина
549
освободит вас»[9]. Христианские богословы от апостола Павла до Григория Паламы и таких религиозных мыслителей, как Семен Франк и Николай Бердяев в XX веке, считают, что свобода во Христе — это сотворчество человека с Богом и обожение (по-гречески теозис): во Христе Бог воплотился в человека, чтобы человек обожился. Как далеко это от ислама, что в переводе значит сдача [в плен] и подчинение!
Как мы уже сказали, проповедь Магомета сопровождалась многочисленными войнами с избиением пленных. Благодаря завоеванию ряда соседних народов и взыманию с них дани исламское государство быстро богатело. Сам Магомет был весьма успешным торговцем и еще более успешным вождем и военачальником. Жил он в соответствии с исламским законом, преподаваемым им арабам: не иметь более одной жены, если не можешь их содержать, и не более четырех жен, если в состоянии их содержать; что касается наложниц, то их число не ограничивалось, и никаких обязательств по отношению к ним Коран не выставлял. У Магомета было 4 жены плюс наложницы.
Магомет (великий имам и халиф) не оставил по себе ни мужского потомства, ни завещания.
Не оставил он и правила замещения земного руководства исламом. Теоретически верховный имам или халиф устанавливается волей Божьей. Но на практике «власть в исламском мире берется силой и остается в руках того, кто сумеет ее взять и удержать»[10]. Поэтому политические убийства были нормой в борьбе за власть, которая тут же и началась между четырьмя его свойственниками через браки с его дочерьми. Из 4 халифов, правивших государством и религией, трое были убиты в междоусобных войнах.