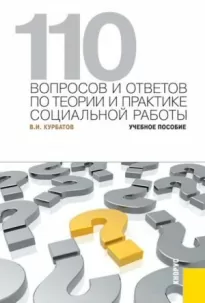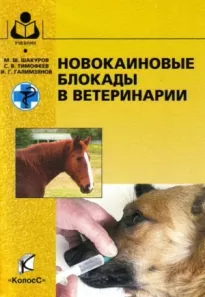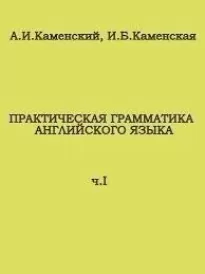Тоталитаризм и вероисповедания
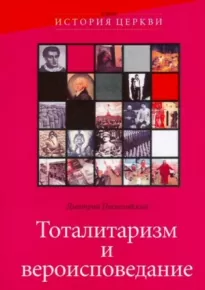
- Автор: Дмитрий Поспеловский
- Жанр: История: прочее
- Дата выхода: 2003
Читать книгу "Тоталитаризм и вероисповедания"
408
подняться в воздух), и в течение первых двух-трех недель было уничтожено или захвачено немцами до 90% танков. Конечно, расплачиваться за это пришлось не Сталину, а генералам. Первым был расстрелян генерал Павлов, командовавший войсками Западного приграничного военного округа. Он и около десятка других генералов, расстрелянных в первый год войны, явились козлами отпущения за сталинские нерадивость, маниакальное недоверие и кровавые чистки, унесшие жизни лучших командармов.
Вернемся теперь к вопросу о целесообразности сталинской системы, его пятилеток, его индустриального «чуда». Напомним, что накануне перехода к сталинской модели индустриализации, в последние 2-3 года НЭПа, шел ожесточенный спор о методах индустриализации между «левыми», на чью сторону в те годы перекинулся Сталин, взявший на вооружение фактически модель Троцкого—Преображенского, и «правыми», представляемыми Бухариным. Напомним, что Бухарин предлагал фактически столыпинскую модель индустриализации: вывозить сырье и зерно, платя крестьянам достаточно привлекательные деньги за производимую ими продукцию, чтобы стимулировать у них стремление к максимальным посевам и модернизации фермерского дела, ввозя за русское сырье машины с Запада, в том числе и сельхозмашины, цены на которые должны быть доступны крестьянам. Сталин тогда, пользуясь временным разрывом дипломатических отношений с Англией, который он интерпретировал как неизбежность близкой войны, заявлял, что у Советского Союза нет времени на такое постепенное развитие промышленности, он находится во вражеском окружении, и ему необходимы бешенные темпы развития тяжелой промышленности (читай: военной), чтобы быть готовыми к отражению врага. Как мы знаем, «успех» пятилеток был очень относительным, ибо шел за счет террора, страшного понижения уровня жизни в 1930-е годы, голода, разрушения сельского хозяйства и легкой промышленности. И поскольку это была типичная экономика военного времени, способная производить лишь очень ограниченный ассортимент продукции, к 1938 году сталинское «чудо» захлебнулось: рост производства стали, угля, добычи нефти застопорился, и даже началось количественное
409
снижение производства. Виной этому, как мы уже сказали, были сталинская «экономическая» система плюс террор, унесший на тот свет или, в лучшем случае, в концлагеря тысячи инженеров и ученых и отучивший тех, кто остались на своих производственных местах, от проявления какой-либо творческой инициативы, ибо любая ошибка, просчет грозили обвинением во вредительстве и смертной казнь[5].
Сегодня многие постсоветские экономисты и историки указывают, что из-за стремительного отступления в 1941 году было потеряно около половины всей военной техники и боеприпасов. То есть Советский Союз победил Германию половиной оружия и машин, созданных в 1930-е годы. Такое количество было бы произведено и в условиях действия производственной модели Бухарина. Но зато не было бы той ненависти к власти крестьян, которые составляли не менее 60% советских солдат и которые миллионами сдавались в плен немцам в первые месяцы войны, а позднее влились во власовское движение и прочие антисоветские военные соединения на стороне Германии. Не было бы всех ужасов 1930-х годов. И вооруженные силы возглавлялись бы теми опытными офицерами, которых Сталин уничтожил. Наконец, не будь Сталина, нормальное правительство посчиталось бы со сведениями о готовящемся немецком нападении и приготовилось бы к нему. Были бы целы и укрепления 1939 года, так что вряд ли бы немцы дошли до пригородов Москвы и, во всяком случае, война обошлась бы в гораздо меньшее количество русских жизней при толковом командовании. Разве можно оправдать тот факт, что на каждого убитого немца приходится 7 погибших советских военнослужащих? Немецкие войска потеряли 4 миллиона убитыми на всех фронтах вместе взятых, а советские — около 25 миллионов на одном, правда, самом кровавом фронте. В заключение этих «сослагательных» подсчетов и размышлений можно смело прийти к выводу, что Сталин и его «система» не могут быть оправданы даже при самом циничном игнорировании человеческих жертв и страданий.
410
Но вернемся к первому дню войны — дню полной растерянности Сталина, первой реакцией которого был приказ не провоцировать противника, не применять артиллерию — он все еще усыплял себя надеждой, что произошла какая-то ошибка и немцы могут вернуться на исходные позиции. Затем было приказано проникнуть в тыл противника; в то время как на самом деле немецкое наступление опрокинуло советские войска, которые отступали в беспорядке, и речь могла идти только о более упорядоченном отступлении. А газеты ни словом не обмолвились о немецком нападении. «Правда» в этот день вышла с передовицей о летнем отпуске учителей.
Первым объявил о начавшейся войне патриарший местоблюститель Сергий. На 22 июня в 1941 году выпал праздник Всех святых, в земле российской просиявших, и митрополит Сергий, только что окончив воскресную литургию, готовился начать служить молебен, посвященный всем российским святым, когда один из его помощников сообщил ему о немецком нападении. Митрополит тут же объявил о начале войны прихожанам и произнес проповедь-призыв к защите Родины. Он говорил, что Церковь всегда во всех национальных невзгодах оставалась со своим народом, призывал духовенство исполнить свой пастырский и национальный долг, многозначительно предостерег от соблазнов по ту сторону фронта. Затем он распорядился отпечатать текст проповеди и разослать ее по всем тем немногочисленным приходам, что еще не были закрыты, с распоряжением зачитывать ее с амвона. Этим своим выступлением, по советским законам, митрополит совершил антигосударственный акт, поскольку Церкви было запрещено каким-либо образом вмешиваться в государственные и общественные дела. Но на этот раз отрицательных последствий за этот самовольный поступок не было. Наоборот, эта и последующие патриотические речи митрополита печатались в государственных типографиях и раскидывались с самолетов по ту сторону фронта. Тем не менее, когда немцы подошли вплотную к Москве, Сталин приказал эвакуировать митрополита Сергия в Ульяновск, явно не доверяя ему. Возможно потому, что ближайший его друг, экзарх Прибалтики митрополит Сергий (Воскресенский), остался в Риге и занял позицию внешней поддержки немцев, убеждая их, что
411
РПЦ — не добровольный сотрудник советской власти, а жертва и пленник. Ему удалось убедить немцев в политической целесообразности существования на оккупируемой ими территории церкви, подчиняющейся Московскому патриархату, так как это убедит советских граждан не только в религиозной терпимости немцев, но и в том, что они понимают разницу между советским народом и его коммунистическими поработителями. Это сложное лавирование между молотом и наковальней закончилось убийством Рижского митрополита людьми в форме СС. До сих пор есть две версии о его убийстве — по одной версии это были советские партизаны, переодетые в немецкую форму, по другой — убийцами были немцы. Сергий Воскресенский был явно неугоден большевикам. Но не менее неугодным он был и для Берлина, отказавшись осудить избрание в 1943 году митрополита Сергия (Страгородского) патриархом, чего требовали от него немцы; то есть он открыто выступил против официальной политической линии Берлина, выпустив заявление в поддержку новоизбранного патриарха, в котором говорилось, что допущение большевиками восстановления патриаршества свидетельствует об идеологическом провале марксизма и воинствующего безбожия.
Так вот, возвращаясь к осени 1941 года... Сверхподозрительный Сталин мог решить, что митрополит Сергий Рижский остался в оккупированной немцами Риге неспроста, что между двумя Сергиями был тайный договор, чтобы в случае войны Рижский митрополит остался на немецкой стороне и подготовил бы легализацию Московской патриархии в случае прихода немцев в Москву. Во всяком случае, некоторые историки придерживаются такого мнения. Как бы то ни было, но Сталин не пускал местоблюстителя обратно в Москву до осени 1943 года, хотя патриотические воззвания, которые Сергий продолжал писать в Ульяновске, советские самолеты по-прежнему разбрасывали по ту сторону фронта. Что касается пресловутой встречи Сталина 4 сентября 1943 года с тремя единственными митрополитами, которые еще пребывали на своих постах, то объяснение этому лежит совсем не в плоскости популярных в сегодняшней России легенд о каком-то арабском епископе, который-де по велению
412
Богородицы встретился со Сталиным и чуть ли не вернул его к вере в Бога и что маршал Жуков летал на самолете с иконой Богоматери над войсками в Сталинграде. Все гораздо проще. К 4 сентября 1943 года, после разгрома немцев под Сталинградом и на Курской дуге, победа была уже обеспечена. Но скоро должна была начаться Тегеранская конференция, и Сталину надо было убедить союзников в том, что в СССР религиозная свобода, и никакой мировой революцией Советский Союз больше не грозит. Для этого было разрешено англиканской высокой церковной делегации посетить Москву в сентябре, где английские гости увидели пышное патриаршее богослужение в переполненном храме. Все это было раздуто англо-американскими средствами информации — Сталин стал «добрым дядей Джо», как назвал его Рузвельт. Что касается реального положения церкви после судьбоносной встречи иерархов со Сталиным, то, хотя такие устные обещания Сталина, как открытие духовных школ и храмов в необходимом Церкви количестве, выполнены не были, шквальных гонений на религию по образцу 1930-х годов уже не было до хрущевских гонений 1959—1964 годов[6].
А теперь взглянем, что происходило в советских верхах в первые дни войны. Только через несколько часов после митрополита Сергия о войне объявил по радио Молотов. Сталина не было ни слышно, ни видно — он укатил на так называемую «ближнюю дачу» — в Кунцево. Микоян вспоминает, что через несколько дней после начала войны члены Политбюро всполошились — как же без Сталина? Отправились на поиски в Кунцево и нашли его там в полной прострации. Сталин явно предполагал, что ему или, во всяком случае, его
413
руководству страной пришел конец, так как встретил членов Политбюро словами: «Зачем пришли?» В отличие от Сталина, который в те дни, наверное, считал, что война проиграна, по словам того же Микояна, «у нас была уверенность, что мы сможем организовать оборону». Молотов пояснил Сталину, что необходимо создать единый централизованный орган управления страной во время войны, во главе которого должен стать Сталин. «Сталин посмотрел удивленно» и ... согласился[7]. Вот вам и вождь! Ведь это Сталин должен был созвать членов Политбюро, а не они — просить его возглавить снова руководство. Сталин сам в 1945 году на приеме в честь Победы, произнося тост «за великий русский народ», произнес свои знаменитые и многозначащие слова о том, что в момент начала войны другой народ сбросил бы таких руководителей, и только такой великий и долготерпеливый народ поверил своим руководителям, и вот победа. Подтекст тоста: русский народ правильно сделал, что доверился такому великому вождю, как Сталин, несмотря на его политические просчеты накануне войны. Из поведения Молотова и Кo и того факта, что Сталин остался у власти, и попыток сместить его не было, такой циник, как Сталин, мог сделать вывод о «правильности» чисток. Ведь, если бы в руководстве партии и армии оставались старые кадры, более способные к принятию самостоятельных решений, чем аппаратчики сталинской школы, дворцовый переворот, во всяком случае, в эти дни полной растерянности Сталина был бы весьма вероятным.