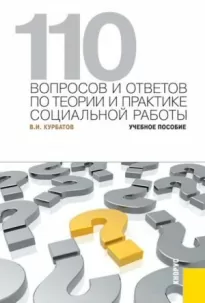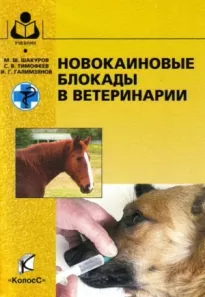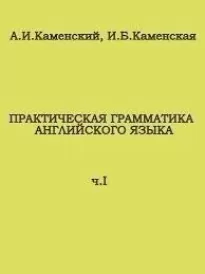Тоталитаризм и вероисповедания
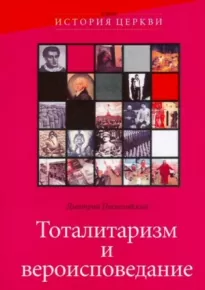
- Автор: Дмитрий Поспеловский
- Жанр: История: прочее
- Дата выхода: 2003
Читать книгу "Тоталитаризм и вероисповедания"
Из ее отщепенства, атеизма и приверженности социализму исходит внутреннее противоречие: интеллигенция «отрицает мир во имя мира и тем самым не служит ни миру, ни Богу», — пишет Струве. Впервые, по мнению Струве, интеллигенция вышла из своего отщепенства во время революции
123
1905 года, когда ее «мысль впервые соприкоснулась с народной» в форме революционных действий, народных восстаний под лозунгами, выдвинутыми революционной интеллигенцией. Можно тут также привести первое революционное выступление в Кровавое воскресенье: обращение к царю от имени петербургских рабочих было написано интеллигентами. Интеллигенты из среды левых кадетов, эсэров и социал-демократов обучали гапоновских рабочих обычной и полит-экономической грамоте задолго до Кровавого воскресенья.
Причину провала первоначальной победы интеллигенции в революции 1905 года Струве видит в ее политической безграмотности, ибо «вне ... воспитания в политике есть только две возможности, — пишет Струве, — деспотизм или охлократия». Служа, как она считает, народу, интеллигенция не позаботилась ни о собственном правильном политобразовании, ни о политическом и правовом образовании народа, без которых все ее усилия «лишены принципиального морального значения и воспитательной силы. ... Просочившись в народную среду ... народническая, не говоря уже о марксистской, проповедь... превращалась в разнуздание и деморализацию». Не остановившись на победах в первую фазу революции, породившей «Манифест 17 октября», законы о веротерпимости и о рабочих союзах и пр., интеллигенция, не рассчитав ни своих сил, ни сроков готовности народа следовать за ней, решила терроризировать правительство, веря, что сможет его смести. «Власть была действительно терроризирована, — пишет Струве, — но не так, как хотела радикальная интеллигенция: власть ответила полевыми судами, военными расправами и смертными казнями, а затем и изменением избирательного закона...».
Струве видит «кризис и разложение социализма» на Западе, а в России «обуржуазивание» интеллигенции по мере индустриализации страны. Кризис социализма на Западе проходит не так болезненно, как он может проехаться по России, пророчески размышляет Струве, ибо на Западе «нет того чувствилища, которое представляет интеллигенция. Поэтому по России кризис социализма ... должен ударить с большей силой, чем по другим странам». Последней попыткой спасения социализма он видит синдикализм.
124
В России же идеи синдикализма выдвигали покаявшийся бывший народнический террорист, ставший монархистом, Лев Тихомиров и создатель первых в России неподпольных профсоюзов, начальник московского Охранного отделения Сергей Васильевич Зубатов. Характерно, свою доктрину народной монархии он называл «прогрессирующим социализмом», согласно которому при монархии у рабочих гораздо больше шансов добиться социальной справедливости, ибо царь вне классовых интересов.
Стоит лишь (силой рабочих?) убрать с дороги «посредников» между царем и народом, довести нужды и чаяния рабочих до царя, установить как бы обратную связь от рабочих к царю, помочь ему приструнить эксплуататоров — и все будет прекрасно. Под влиянием идей Тихомирова, который, кстати, был одним из лекторов, читавших лекции зубатовским рабочим, выдвигалась идея узаконить промышленных рабочих в качестве особого самоуправляющегося сословия, и всем сословиям расширить права самоуправления. Эти идеи вполне соответствовали тому, что в Германии называли монархическим социализмом.
После 1905 года тихомировские идеи стали идеологией Союза русского народа (СРН), который некоторые западные политологи и историки считают русским фашизмом или даже нацизмом, ибо Союз призывал власти насильственно выдворить всех российских иудеев в Палестину. СРН был основан 22 октября 1905 года в качестве массовой контрреволюционной партии или движения, в противовес революционно-радикальным левым партиям с использованием той же тактики, которой пользовались эсэры, анархисты и пр., включая террор. В числе их жертв были думские депутаты от Кадетской партии Иоллос и Герценштейн, трудовик Караваев, были неудачные попытки убийства кадетов Милюкова и Гессена и бывшего премьера Витте за его инициативу «Манифеста 17 октября». Подобно будущим фашистским партиям западной Европы СРН называл себя стихийным массовым народным движением защиты царя, Церкви и отечества. Однако, — подчеркивает американский специалист по русской политической истории Ханс Роггер, — идея его создания исходила не от правительства, а от крайне правых общественных группировок. В основание СРН вошли такие крайне правые
125
группировки, как Московское общество хоругвеносцев, Московская добровольная охрана, Санкт-Петербургское русское собрание. Определенно известно о субсидировании СРН правительством по крайней мере после выборов в Первую Думу, положивших конец иллюзиям о монархизме крестьян. Правда, правительство субсидировало и Союз 17 октября, против которого боролся СРН.
Столыпин и его сотрудники относились к СРН с большим недоверием и антипатией, убедившись в социально-экономическом радикализме Союза. Подобно эсерам пропаганда СРН осуждала социальные и имущественные привилегии, богатство, помещиков, а иногда и церковную иерархию, выступала против государственных чиновников и даже царских сановников, обещала наделение землей беднейших крестьян за счет помещичьих имений, улучшение условий и оплаты труда промышленных рабочих. Наиболее активными были отделения СРН, находившиеся в районах со смешанным населением, где они выступали защитниками русских национальных интересов против польских помещиков, еврейских торговцев, армян. Тут они нередко применяли насилие, бойкот, забастовки, штрейхбрехерство, а то и погромы. В Одессе у СРН были даже тайные боевые дружины, вроде будущих итальянских боевых фашей. Однако растущее хулиганство СРН вызывало все более отрицательную реакцию как правящих кругов царской России, так и влиятельного местного дворянства. Например, крайне правый антисемит В. Шульгин порвал с Союзом и писал по этому поводу, что «еврейский погром — это начало анархии ... бунта черни. Начнут с евреев, а кончат уничтожением всего культурного, разрушением всего, что нам удалось с таким трудом создать». СРН в действительности стал антигосударственной организацией: его депутаты пытались срывать сессии Думы, выступали против «Основного закона 17 октября», то есть против государственного строя России. Не была ли эта деятельность попыткой выполнения зубатовско-тихомировской сословной программы народной монархии в изуродованном люмпенами виде? СРН не вырос в фашистскую или нацистскую угрозу стране, оставаясь громкой, хулиганской, но небольшой фракцией в Думе. Однако он показал, сколь опасными могут быть игры с
126
охлократией, будь она слева или справа; сколь реальны были предостережения одиннадцатого часа в «Вехах», особенно призыв Франка к интеллигенции: «От непроизводительного нигилистического морализма мы должны перейти к творческому, созидающему культуру религиозному гуманизму».
Суммируя суть «Вех», можно сказать, что она заключалась в призыве к интеллигенции отказаться от радикализма, пойти на сотрудничество с властью, что в условиях думской монархии морально оправдано, чтобы избежать революции, когда с разнузданными массами интеллигенция справиться не сможет из-за своей чуждости этим массам. Призыв услышан не был!
Что Ленин, большевики и эсеры набросились на «Вехи», — это само собой разумеется. Но набросились и кадеты, к которым принадлежало большинство авторов «Вех». Вождь Конституционно-демократической партии Милюков нашел нужным предпринять длительную поездку по всей России и произнести более сотни речей, обвиняя авторов «Вех» в измене интеллигентской традиции, предательстве. В 1918 году об этом напомнил сборник «Из глубины» (того же направления, что «Вехи»), но было уже поздно...
Аннотированная библиография
B. А. Буков «От российского суда присяжных к пролетарскому правосудию: у истоков тоталитаризма». М.. изд. Министерства юстиции РФ, Российской правовой академии и Международного юридического института. Автор рассматривает истоки, как правового сознания с понятиями разделения властей, идущего от великой судебной реформы Александра II, а истоками уходящей к Монтескье, Локку и Беккарии (но впоследствии урезанной), так и тоталитаристского (или соборного по-славянофильски), смешивающего воедино власть административную с судебной, как повелось у нас изначально от древней Руси. Буков правильно указывает здесь близость мышления крайних монархистов, разных черносотенцев и большевиков. То же тотальное мышление автор видит в «Определении» 1917 года о созыве церковного
127
поместного собора: «В Православной российской церкви власть законодательная, административная и судебная и контролирующая принадлежит Поместному собору». Правда, в рекомендациях реформ таких виднейших руководителей церкви тех лет, как митрополиты Тихон и Сергий (оба будущие патриархи), предлагалось сделать церковный суд независимым от церковной администрации и гласный по типу гражданских судов присяжных, но это другой разговор. Главная мысль автора в том, что правовое сознание было уделом очень небольшого меньшинства в России, суд присяжных еще был слишком молод, чтобы его необходимость и ценность были осознаны всей грамотной Россией, что облегчило и приход большевиков к власти, и торжество тоталитаризма во всей общественной и государственной системе СССР.
C. Булгаков «От марксизма к идеал-реализму». Сборник статей (1896-1903). СПб. 1903 (переиздание: «Посев», 1968). Как признается сам автор, этот сборник — зеркало интеллектуальной и духовной его эволюции от марксизма к христианству. Марксизм, по его словам, «после томительного удушья 80-х годов ... явился источником бодрости и деятельного оптимизма ... им нанесен был смертельный ... удар по экономическому славянофильству русского народничества». Однако далее он говорит о догматичности марксизма, требующего «полной верности раз принятым философским и методологическим принципам, отрицающего роль и значение личности в истории, игнорирующего этическую проблему». Далее он называет марксизм «суррогатом религии». Поэтому неслучайно, что наиболее самостоятельно мыслящие и интеллектуально одаренные марксисты конца XIX века превращаются в христиан и религиозных мыслителей в следующее десятилетие. Ведь фактически все мыслители русского религиозно-философского ренессанса — бывшие марксисты.
«Вехи». Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1909 (переиздание: «Посев», 1967). В 1990-X годах переиздан в России. Дополнительные комментарии после вышеизложенного текста излишни.
«Из глубины». Сборник статей о русской революции. Париж: YMCA-Press. 1967. Из 11 авторов этого сборника пятеро участвовали в сборнике «Вехи». Остальные авторы принадлежали
128
к тому же идейному кругу. Сборник был сверстан в 1918 году, но был остановлен советской цензурой. Работники типографии, однако, выпустили его самовольно в 1921 году. Но тут же весь тираж был уничтожен по распоряжению ЧК. В предисловии к парижскому переизданию племянник редактора и составителя сборника профессор Парижского университета Никита Струве пишет: «Авторы ... исследуют русскую революцию в ... ее прошлом, настоящем и будущем. Нигде с такой ясностью и остротой не были вскрыты ... свойства русской души и условия русской истории, приведшие к взрыву 1917 года».