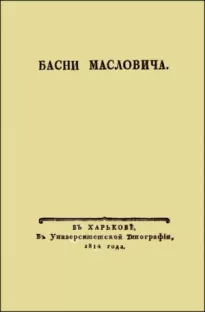Эпох скрещенье… Русская проза второй половины ХХ — начала ХХI в.
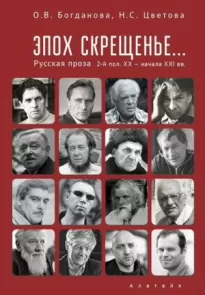
- Автор: Ольга Богданова
- Жанр: Критика / Литературоведение
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Эпох скрещенье… Русская проза второй половины ХХ — начала ХХI в."
Писатель все делает для того, чтобы разбудить человеческое сердце, душу, подвести Дмитриева к восприятию смерти матери как последнего события в цепи вдруг обнажившихся перед ним не только личностно значимых, но и исторически важных, исторически — катастрофических исчезновений. Именно для этого он не просто пробуждает ранние воспоминания, но демонстрирует их контрастность по отношению к нынешней ситуации. Выбрав наиболее очевидные проявления этой контрастности и самый действенный способ пробуждения души — через природные ассоциации, он просто заставляет героя обратить внимание на изменения в пейзаже. Но у Дмитриева не оказывается необходимых сердечных запасов, внутренних возможностей, чтобы, хотя бы под влиянием трагических обстоятельств, сделать первый шаг на пути самопознания (на возможность приближения к постижению истины Божественного существования не единого намека нет). «И если этой происходит со всем, — утешает он себя, — даже с берегом, с рекой и травой, — значит, может быть, это естественно и так и должно быть?» (с. 36) — пытается обнаружить хоть какую — то зацепку, возможность пусть для минутного самоуспокоения. Очевидно, что этот фрагмент так и не получившего развития диалога с самим собой не имеет никакого отношения ни к системной дохристианской танатологии, ни, тем более, к эсхатологии. Мысль о неизбежности биологической смерти не находит выхода к проблемам нравственным и духовным, слабый намек на которые, едва проступивший в сознании героя в отцовском саду, уничтожается многочисленными сугубо практическими волнениями и надобностями.
По привычной логике, происходящее в той или иной форме должно было спровоцировать хотя бы кратковременные, мгновенные апокалиптические переживания — наиболее очевидное проявление эсхатологизма. И тут действительно художественные детали — намеки обнаруживаются достаточно легко: все события, описанные в повести, происходят осенью, все перемещения Дмитриева происходят в дождливую погоду… Но авторские усилия и здесь напрасны — апокалиптический пейзаж, на фоне которого Дмитриев от бывшей любовницы едет к смертельно больной матери пародиен: «Небо было в тучах, располагавшихся слоями — наверху густело что — то неподвижное, темно — фиолетовое, ниже двигались светлые, рыхлые тучи, а еще ниже летела по ветру какая — то белая облачная рвань вроде клочьев пара» (с. 32).
И это еще не все и не самое удручающее. В конце концов городскому жителю по определению не принадлежит ни время, ни пространство. Пугающе отрывочны, фрагментарны, обеднены переживания героя, ассоциирующиеся с личной эсхатологией, которая в православной традиции определяла, задавала уровень и качество размышлений человека, оказавшегося перед лицом смерти. В сознании «неудивительного» Дмитриева (так незадолго до собственной кончины охарактеризовал дед своего взрослого внука) личноэсхатологическая проблематика не актуализируется. Герой Ю. Трифонова, оказавшись в критической ситуации, с ужасом понимает, что смерть другого человека для него не является, не может стать предметом рефлексии, потому что у него есть представление только о жизни, т. к. есть, как он сам говорит, знак жизни — счастье, за отсутствием этого знака — пустота, которая в принципе не может вызывать никаких эмоций, переживаний. Ведь совсем не случайно фабульно «удваивается» ситуация потери. Трифонов фиксирует внимание читателя на вроде бы случайных и малооправданных при данных жизненных обстоятельствах воспоминаниях героя о его собственных мыслях, заботах во время похорон любимого деда. Тогда, в церемониальном зале крематория Дмитриев все время думал, как бы не забыть припрятанный от возможных осуждающих взглядов за колонной портфель с банками сайры. Несколько лет спустя, когда мать доживает последние недели и месяцы, он страстно озабочен добыванием денег и поиском обходных путей для быстрого оформления квартирообменных документов. Этот событийный параллелизм для Трифонова чрезвычайно важен — оба случая переживаются героем только как житейские, социально экстремальные, несмотря на то что с современной, общепринятой точки зрения, с изложения которой мы начали, оснований для ограниченного, жестко социологизированного отношения к смерти как к социально значимому событию в данном случае нет. Неизлечимая болезнь Ксении Федоровны Дмитриевой, бескорыстной идеалистки старой интеллигентской закалки, воспитавшей двоих детей, по всем законам и правилам, исходя из общечеловеческого опыта, должна глубоко переживаться, как минимум, этими самыми детьми. Но и единственный сын, и, как казалось, любящая дочь оказываются неспособными на ожидаемые от них переживания. И для Лоры, сестры Дмитриева, планы ее мужа очень скоро оказываются важнее происходящего с матерью, и она найдет необходимые аргументы, чтобы отправиться в очередную командировку.
Причем, Трифонов, выстраивая персонажные ряды, показывает, доказывает, подчеркивает, что Дмитриев — не страшный «монстр», не исключительная фигура. Его товарищ, милейший до появления усложняющих и его жизнь обстоятельств Паша Сниткин, сочувствие и проникновенность которого «имеют размеры, как ботинки и шляпы» (с. 19), без малейших колебаний, легко уравнивает «по весу» смертельную болезнь матери товарища и переход собственной дочки в новую музыкальную школу. Второй сослуживец, образцово деловой и потому снисходительно высокомерный по отношению к Дмитриеву Невядомский не считает нужным тратить эмоции и силы даже на этикетное сочувствие. Он прославился среди сотрудников престижного института тем, что в сходной ситуации успел за три дня до смерти тещи оформить обмен, сделать по требованию ЖЭКа ремонт в старой квартире и переехать. К моменту «консультации» с Дмитриевым он пребывает в состоянии абсолютного довольства и вознагражден всеобщим почтением за разворотливость.
На первый взгляд кажется, что примерно так было и в русской классической литературе: смерть высветляла нравственное состояние героев или, наоборот, проявляла их «душевную недостаточность». Перед лицом смерти неизбежно прожитая жизнь получала неотменимую морально — нравственную оценку, то есть мотив смерти выполнял отчетливо аксиологическую функцию. У Трифонова в конечном итоге принципиального изменения художественной функции мотива смерти вроде бы не произошло, отношение к смерти осталось одним из главных критериев оценки человеческой личности.
Но, нам представляется, что в данном случае принципиальна важна суть перемен, произошедших в структуре мотива смерти, вызвавших его не функцуиональную, но содержательную, качественную деформацию или модернизацию. В мирное, сытое, благополучное время, без каких — либо очевидных оснований смерть превратилась в событие исключительно социальное, сопровождающееся потребностью в определенной последовательности общественно значимых, общественно востребованных, исключительно материальных жестов. Дмитриеву надо заплатить за лекарства, за организацию похорон и поминок, надо получить необходимые справки, чтобы прописаться — выписаться, нужно выйти на хорошего маклера, потом необходимо раздобыть денег на переезд, на ремонт, на новую мебель. Среди этих надобностей была только одна душевно затратная — надо было как — то сказать матери о необходимости переезда. Трифонов совсем не случайно очень подробно воспроизводя всю цепочку событий, которые предшествуют смерти матери, начинает с необходимости мучительного разговора героя с матерью и с сестрой. Но эта преграда достаточно легко обходится, преодолевается в самом начале. А вся последующая кипучая деятельность направлена на все остальные, исключительно формальные надобности, ставшие в конечном итоге более значительными.
При установившейся, при определившейся направленности жизни в душе героя не обнаруживается места для эсхатологических переживаний вполне естественно и вполне нормально. И из многочисленных деталей, символов, мельчайших нюансов возникает убежденность, что разрушили основу, базу этих переживаний претендовавшая на старт с нулевой отметки новейшая история и только что сформировавшиеся принципы сосуществования в пределах нового, городского социума, уничтожавшие, видимо, достаточно последовательно, ощущение человеческой общности, духовные и родственные связи. Дмитриев впервые в жизни испытал «чувство отрезанности» после похорон деда, а после смерти матери окончательно с этим чувством примирится.
Казалось бы, в художественной философии самой знаменитой повести Ю. Трифонова произошло локальное изменение — из мотива смерти писателем была исключена эсхатологическая составляющая. После Платонова и Зощенко в этом нет ничего удивительного, произошедшее вполне логично. Но традиционный литературный мотив обрел специфическое, отчетливое и абсолютно новое по своему качеству экзистенциальное звучание, благодаря которому Трифонову удается достаточно убедительно представить анатомию души горожанина советской эпохи, души, в которой не осталось места для идеалов «монстров», как называет жена Трифонова членов его семьи, для традиционных ценностей, не осталось потребности во взращивании человеческих, дружеских, родственных, любовных взаимоотношений. «Монстры» — романтики революционной эпохи исчезли, не оставив за собой никого, уступив принадлежащее им жизненное пространство Лукьяновым. Родственность воспринимается новыми хозяевами жизни как отягчающее эту жизнь обстоятельство, забота о детях ограничивается добычей дополнительных метров жилой площади, отношения со стариками — раздражением от неизбежности их присутствия. По сути, Трифонову удалось зафиксировать рождение культуры симулякров, не испытывающей потребности в духовно затратной эсхатологии, сознательно ограничившей себя экзистенцианалистскими подходами к жизни и смерти. Для Лукьяновых и их потомков переживания распутинской старухи Анны просто не существовали, для читателей Трифонова сюжет прощания обладал ничтожным, если не нулевым эстетическим потенциалом.
Без этого подлинно художественного открытия Ю. Трифонова сегодня трудно уяснить и мотивировать логику постмодернизма, взявшего на вооружение выросшие на дискредитации материалистического мировоззрения популярные в Европе идеи Ж. Ф. Лиотара и Ж. Бодрийяра. Постмодернисты бились над проблемами, разрешенными трифоновскими персонажами, попытались окончательно отменить не только личную, но и общую эсхатологию. С их точки зрения, даже по поводу Апокалипсиса не стоит рефлексировать, ибо виртуальный вариант мировой катастрофы уже в прошлом человечества. Но им так и не удалось глубже разработать затронутые Трифоновым проблемы, создать убедительную художественную модель сознания цивилизованного человека второй половины завершившегося тысячелетия, дочь которого, по натуре своей наверняка Лукьянова, стала типичной героиней нового столетия и новой литературы.
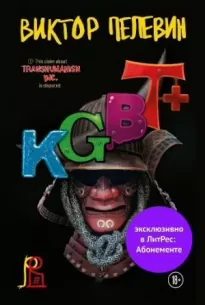
![Спешите делать добрые дела[сборник 2023]](/uploads/covers/2023-06-16/speshite-delat-dobrye-delasbornik-2023-201.jpg-205x.webp)