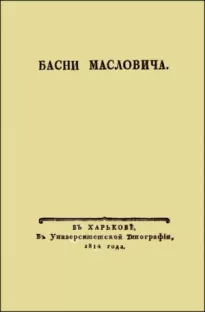Эпох скрещенье… Русская проза второй половины ХХ — начала ХХI в.
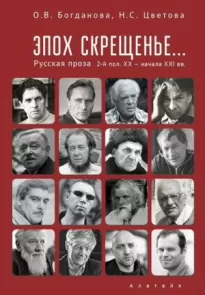
- Автор: Ольга Богданова
- Жанр: Критика / Литературоведение
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Эпох скрещенье… Русская проза второй половины ХХ — начала ХХI в."
В последней редакции идея, объединяющая разные элементы сюжета, претерпевает принципиальные изменения. В батальных картинах, в главной любовной истории, во вставном сюжете о пастухе и пастушке, в кольцевом пейзаже, обрамляющем событийное повествование, появляются новые акценты. Композицию, структуру, стилистику, образную систему теперь «держит» мотив смерти через явное доминирование художественного концепта «смерть». Мотивная переориентировка, изменившая художественную картину мира, хорошо представлена в финале известного публицистического отступления о матерях.
Первая редакция:
«И бесконечны на земле муки матери! Создательницы всего живого и святого! — зачем вы покорились дикой человеческой памяти и примирились с насилием и смертью? Ведь больше всех, мужественней всех страдаете вы в своем первобытном одиночестве, в своей звериной и священной тоске по детям! Нельзя же тысячи лет очищаться страданием и надеяться на чудо. Вы рождаете жизнь, а над миром властвует смерть».
Последняя редакция:
«Матери, матери! Зачем вы покорились дикой человеческой памяти и примирились с насилием и смертью? Ведь больше всех, мужественнее всех страдаете вы в своем первобытном одиночестве, в своей священной, звериной тоске по детям. Нельзя же тысячи лет очищаться страданиями и надеяться на чудо. Бога нет! Веры нет! Над миром властвует смерть!»
Очевидно изменение интонационного рисунка фрагмента — смещение и эмоциональное усиление кульминации — «Бога нет! Веры нет! Над миром властвует смерть!». Трансформация синтаксической структуры периода делает заключительное утверждение категорическим. В последней редакции оно звучит, как приговор. В первой — существовало противопоставление, которое воспринимается как намек на вечно продолжающуюся борьбу жизни и смерти.
Концепт «смерть» в русской культуре имеет сложнейшую структуру: связан с разнообразными представлениями о смерти как о событии, но с вполне определенным образом и функционирует в не менее определенном метафорическом, символическом ряду. Существительное «смерть», представляющее понятие, связанное с концептом, сохранившееся во всех славянских языках, если верить самому авторитетному до сей поры этимологическому словарю М. Фасмера, возникло в праславянскую эпоху. Зафиксированное впервые в Остромировом евангелии, изначально оно было логическим продолжением понятия «жизнь», так как смерть — это «прежде всего конец жизни», «смерть — это и достижение человеком его жизненной цели <…>, свершение всех его земных деяний, а потому окончание его жизненного пути», — утверждает Т. И. Вендина[119]. Но Астафьев трансформирует существующее концептуальное пространство. Трансформация начинается с дробления представления о смерти на войне. Сначала в повести возникает мучительная и бессмысленная смерть, на которую обречены солдаты и офицеры окруженной немецкой группировки. Эта смерть находит объяснение из уст уже упоминавшегося героя — двойника повествователя: разучились крестьянствовать, одичали без земляной работы — подчинились идее войны. Напоминаем, что подобная «крестьянская» мотивировка воинственности звучала уже в повести Е. Носова «Усвятские шлемоносцы».
Смерть такого вояки не дает права даже на последнее пристанище, поэтому, когда один из бойцов после похорон своего кума яростно выдергивает три тополевых креста, уже проросших над немецкими могилами на украинском кладбище, этот жест непрощения не только никем не осуждается, даже не обсуждается. С молчаливого согласия всех наблюдающих эту страшную сцену солдат несостоявшихся завоевателей лишают права на тополевый крест. Прилагательное «тополевый» в данном случае не логическое определение, но эпитет, потому что тополь — дерево, дарившее древним славянам надежду на бессмертие, в него, по поверьям, могла переходить после смерти душа человека. Вот героиня после ухода любимого по праву, логично и естественно остается в домике под двумя тополями. «Одичавших» под «проросшими» тополями Астафьев оставить не мог. Не менее важно, что кладбище, которое громит солдат, огорожено терновником. Терновник — древний оберег и напоминание о «венце терновом» — символе мучений, принятых ради будущей жизни Спасителем, знак сакрального пространства, принимающего человека после многотрудного жизненного пути. Погибшие вражеские солдаты этого пристанища лишаются осознанно.
Кроме того, война пытается приучить человека и к восприятию смерти как обыденного, привычного прекращения физического существования. После боя, готовясь к следующей атаке, из трупов бойцы могут соорудить бруствер, спокойно делят трофейные галеты и спирт, при необходимости раздевают убитых, чтобы закрыть от мороза раненых. Примерно так реагируют на смерть вороны и волки. Дикий инстинкт самосохранения заставляет собаку Люсиного постояльца сожрать своего хозяина после его гибели. Астафьеву это фоновое событие необходимо, чтобы напомнить об уникальности человеческой души, поднимающей человека над животным, и выявить причины гибели героя, после долгого сопротивления все же подчинившегося власти смерти.
И наконец, с фигурой старшины Мохнакова связана долгожданная для его изношенной души смерть — избавление, смерть — месть, к которой сам Мохнаков, присвоив право палача, приговаривает фашистов. Но его отношение к смерти настолько неестественно для традиционного сознания, что необходима тончайшая психологическая нюансировка, ради которой Астафьев в окончательной редакции уточняет мотивировку поступков и состояний именно этого героя. И только на первый взгляд вследствие этих уточнений старшина перестает быть фигурой апокалипсической[120].
Три отношения к смерти на войне стягиваются, объединяются двумя персонификациями смерти, отменяющими фольклорный образ «костлявой и безобразной старухи с косой»[121]. В начале первой главы Астафьев одушевляет войну, олицетворяя ее символы: мечущиеся танки, выкатившиеся на взгорок «катюши», присевшие на лапах перед прыжком машины. Потом мы узнаем смерть в громадной фигуре горящего немецкого солдата, напоминающего и ангела бездны Абаддона, и страшное пещерное существо с дубьем в длинных когтистых руках одновременно: «Огромный человек, шевеля громадной тенью и развевающимся за спиной факелом, двигался, нет, летел на огненных крыльях к окопу, круша все на своем пути железным ломом. Сыпались люди с разваленными черепами, торной тропою по снегу стелилось, плыло за карающей силой мясо, кровь, копоть».
Обе персонификации отличаются от ограниченной в своем могуществе фольклорной. Они масштабны, всесильны и неуклонно присваивают все пространство. После их появления все смерти — фрагменты одной мозаики, изображающей «свето — переставление» (Астафьев часто целенаправленно использовал диалектный вариант существительного «светопреставление») — эпоху переставления света, перевернутого мира, не способного удержать, сохранить свет — символ жизни.
На эту идею «работает» и стилистическая правка, в результате которой возникают эсхатологические признаки — знаки совершающегося Апокалипсиса: исчезнувшее солнце, огонь и кровь, люди, принявшие облик зверя. Эти знаки становятся основанием для эсхатологического метафорического определения созданного пространства — «геенна огненная», «адово столпотворение», методически усиливаемого постоянно возобновляемыми деталями, которые с языческих времен существовали в ассоциативном поле смерти (холод, черный снег, «бредовая темень», «сонно укутывающая все вокруг снеговая муть»).
Окончательно семантика организующего мотив смерти концепта проясняется на фоне антитезы «жизнь — смерть», связанной с любовной сюжетной линией. Ассоциативное поле концепта «жизнь» в повести создают свет, музыка, заря, вода, чистота, тепло, цветы. Существование этих ассоциаций связано, в первую очередь, с героиней. Яркий свет в передней ее хаты; тепло и чисто; половичок, расшитый украинским орнаментом, как напоминание о природном многоцветии мира, оберег от пустоты, которая в любой момент может быть «освоена» смертью; мазанный земляной пол и цветок с двумя яркими бутонами, даром что сделанными из крашенных стружек. Возвращаются свои, и женщина с радостью, с готовностью растапливает печь, приглашает солдат, как гостей, на чистую половину, кормит и обстирывает их. Астафьев в обеих редакциях замечает, что она растапливает печку за секунды прогорающей соломой и веточками акации, от которых идет сухой струйный жар. Символичность акации, как мы уже отмечали в булгаковском разделе, амбивалентна: с одной стороны, это знак избранничества, с другой — в христианских представлениях белая акация — напоминание о бессмертии души. Герои, обогретые теплом сгорающей акации, избраны для награждения любовью, давшей им надежду на преодоление смерти. Этот символ поддерживается, развивается, усиливается в окончательной редакции еще одной значительной деталью. Когда влюбленные подчиняются своим чувствам, им кажется, что в небе над их головами зажигаются звезды, робко протыкающие небесную мглу или в высь поднявшуюся и никак не рассеивающуюся тучу порохового дыма. Русская литература постоянно использовала этот прочно укрепившийся в национальном сознании христианский символ: звезды — окна в светлом Божьем тереме, зажигаемые для каждого человека в момент его рождения[122]: «Народится человек, и ангела нового посылает Бог стеречь от греха напрасного — наносного, от ухищрений нечистой силы дьявольской.
Прорубит ангел новое окошечко из Божьего терема, сядет у него и смотрит, глаз не спускаючи с доверенного его попечению сына земли… Умер человек, захлопывается ставнями окно, падает и его звезда с выси небесной на грудь земную»[123]. Любовь прояснила затянутое мутью и пороховыми тучами окошко, на землю прорвался свет и герой вспомнил сиреневую, «простенькую такую, понятную» музыку. В данном случае цветообозначающий эпитет утрачивает языковую семантику — музыка не имеет определенных, общепринятых коннотаций, а ассоциации, которые вызываются эпитетом «сиреневый», отличаются тонкостью, почти неуловимостью, сиюминутностью: сиреневые сумерки, сиреневый туман, сиреневый дым. По шкале «теплый — холодный» этот цвет ближе к холодным, но ни горестью, ни со страхом, ни с презрением, ни с гневом он не соотносим, как, впрочем, не соотносим с радостью или удивлением. Это известное с ХVII века обозначение рожденного живой природой цветового оттенка различается только людьми творческими, художественно развитыми, одаренными, чувствующими, тонко реагирующими на состояние мира. Сиреневую музыку у Астафьева слышит потомок декабристов Фонвизиных и сын учительницы литературы, унаследовавший высокое, трепетное и требовательное отношение к жизни, любовь к литературе, чувство слова. Музыка из прошлого на войне превращается для него в символ все еще сохраняющегося живого разнообразия мира, в символ любви, сотканной из мельчайших нюансов, чувств и состояний и уничтожаемой тотальной властью смерти.
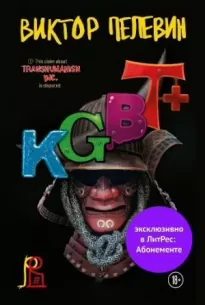
![Спешите делать добрые дела[сборник 2023]](/uploads/covers/2023-06-16/speshite-delat-dobrye-delasbornik-2023-201.jpg-205x.webp)