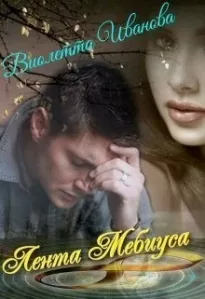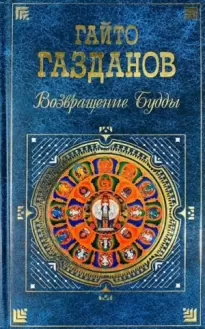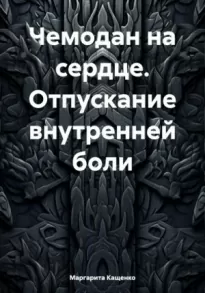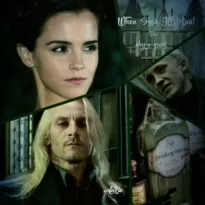Febris erotica. Любовный недуг в русской литературе
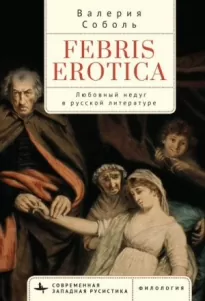
- Автор: Валерия Соболь
- Жанр: Литературоведение
Читать книгу "Febris erotica. Любовный недуг в русской литературе"
Такая четкая оппозиция усложняется с появлением фигуры семейного врача, который принадлежит обоим мирам: вспомните утверждение доктора Крупова о том, что он досконально знает жизнь своих пациентов, и его статус «дяди» в семье Круциферских. В романе «Что делать?» лечащий врач Кати играет именно роль посредника: во время консилиума он авторитетно информирует приглашенных «тузов» о семейной ситуации пациентки и заверяет их, что в отношениях отца и дочери нет проблем, тем самым доказывая читателю (и Кирсанову) свою несостоятельность как причастной фигуры. Не лучше обстоят дела и у самого отца; его знания, по сути, оказываются в прямой зависимости от знаний лечащего врача: «А между тем отец не знает причины расстройства, потому что пользующий медик не знает…» [там же: 298]. Способность Кирсанова быстро разгадать загадку Катиного состояния утверждает его превосходство (и, соответственно, превосходство «новых людей» 1860-х годов) в обеих сферах, профессиональной и личной, поскольку его совершенные медицинские знания сочетаются с отцовской проницательностью[296]. Более того, лечение Кирсановым Кати, успешное отчасти благодаря манипулированию ее отцом, приведет к символическому освобождению героини от патриархального мира традиционных ценностей.
Диагностическая процедура Кирсанова, в ходе которой он, абсолютно чужой человек, становится доверенным лицом, вооруженным знаниями, которые ускользнули от отца пациентки и ее лечащего врача, заслуживает более пристального внимания. Ему потребовалось два часа, чтобы заставить Катю говорить, но в конце концов он добивается успеха, используя ряд довольно манипулятивных, но психологически эффективных приемов. Он вызывает ее сострадание и доверие, признаваясь, что тоже стал жертвой несостоявшейся любви и поэтому понимает ее ситуацию[297]. Он пробуждает любопытство Кати, действуя ровно противоположно традиционным ожиданиям – отказываясь говорить с ее отцом и оставляя ей безграничную свободу выбора: он даже предлагает ей быстродействующий яд, чтобы избежать долгих и бессмысленных страданий от туберкулеза в случае, если ее состояние будет безнадежным. Читатель понимает, что Кирсанов близок к успеху, когда первоначальная «насмешливая» улыбка Кати уступает место «печальной» в ответ на его признание в собственной любовной неудаче, и особенно когда заинтригованная больная признается в конце разговора: «Вы странный человек, доктор», – подразумевая, что его индивидуальный подход к ее ситуации, кардинально отличающийся от других (или, можно сказать, подрывающий традиции диагностики любовной болезни), завоевал ее доверие.
Как и свойственно эпистемологии Чернышевского, диагност полностью полагается на логичное словесное повествование пациентки, задавая прямые вопросы, такие как «прошу вас, скажите мне причину вашей болезни» и «назовите мне человека, к которому вы чувствуете расположение» [там же: 294, 295]. Поскольку проблема полного осознания героиней собственной ситуации не поднимается, эта информация доступна и в конечном итоге предоставляется Кирсанову. Только после этого он, с разрешения Кати, сообщает о происходящем ее отцу, который в ответ ставит под сомнение саму идею любви как болезни: «Как же она умирает от любви к нему [Соловцову]? Да и, вообще, можно ли умирать от любви? Такие экзальтированности не могли казаться правдоподобны человеку, привыкшему вести исключительно практическую жизнь, смотреть на все с холодным благоразумием» [там же: 298], но они казались очень правдоподобны материалисту и рационалисту Кирсанову.
Кажется парадоксальным, что в романе Чернышевского, который обычно считается манифестом материализма, предпочтение отдается более идеалистической «психологической модели» любовной болезни[298]. Тот факт, что в романе не отвергается возможность чисто психогенного заболевания, не должен удивлять: идея о том, что эмоциональные расстройства влияют на тело, согласуется с непоколебимо монистическим взглядом писателя на природу человека. Более того, представление о неделимости человека делает неуместным само различие между медицинской и психологической моделями; в конце концов, в своем «Антропологическом принципе в философии» Чернышевский, как известно, утверждает, что «нравственные науки» (в том числе и психология) рано или поздно достигнут точности естественных наук и переймут их методы [Чернышевский 1939–1953, 7: 255–268]. Однако же категорическое неприятие Кирсановым (и откровенное высмеивание рассказчиком) медицинских методов и диагнозов – ослушивания, назначения лекарств, atrophia nervorum – и его общее пренебрежение к телу как возможному проводнику истины становятся неожиданностью, особенно когда следуют (в структуре, а не фабуле романа) за его долгими разговорами с Верой Павловной о физиологии эмоций и за его редуктивным определением любви как «возбуждения нерв». В постромантическом дискурсе, как мы видели, медикализация любовных эмоций была эффективным способом отстаивания новой идеологии, но Чернышевский не задействует эту возможность в сцене диагностики любовной болезни[299]. Более того, хотя Кирсанова приглашают в консилиум именно из-за его репутации передового ученого, он не использует свои знания в случае с Катей. Зачем же тогда на протяжении всего романа акцентировать внимание на достижениях Кирсанова в изучении нервной системы, если единственный раз, когда читатели имеют возможность оценить его глубокие медицинские знания, он лечит до боли знакомый и банальный случай любовной болезни?
Распространенный аргумент о «недостатке таланта» Чернышевского и его зависимости от художественных клише не может считаться продуктивным объяснением (хотя вполне вероятно, что предшествующая русская литературная традиция, последовательно тяготевшая к психологической модели даже в якобы «реалистических» и «антиромантических» произведениях, о чем говорилось во второй части этого исследования, оказала свое влияние). Эта книга пытается доказать как раз то, что клише используется по-разному, в зависимости от культурных предпочтений каждой эпохи и индивидуального набора идей и проблем каждого произведения. Похоже, что демедикализируя любовную тоску, Чернышевский вновь подчеркивает социальную, а не физиологическую природу этого явления. Более того, преуменьшение им значения научных методов и медицинских процедур в случае с Полозовой отражает тот факт, что в романе в целом наука не имеет абсолютной ценности, а вторична по отношению к политической программе.
При пристальном анализе становится ясно, что научная деятельность Лопухова и Кирсанова описана в книге весьма туманно (упоминание о препарировании лягушек маркирует их лишь как «нигилистов» 1860-х годов). Значение единственного конкретного исследовательского проекта, который упоминается в романе (синтез белка), в основном практическое и социальное: поскольку белковина (альбумин) использовалась в пищевой промышленности, считалось, что его синтез позволит производить больше продуктов питания по более низкой цене и, следовательно, улучшит положение бедных[300]. Более того, в нескольких случаях научные или медицинские интересы двух друзей подчинены проекту освобождения женщины. Когда Лопухов принимает участие в спасении Веры Павловны, Кирсанов, обеспокоенный тем, что это отвлечет друга от их совместного научного проекта, хочет убедиться, что молодая женщина достойна подобных усилий. Лопухов подтверждает, что она достойна, и Кирсанов дает свое согласие. Участие Кирсанова в деле Кати Полозовой, страдающей из-за любви, явно мотивировано не столько его профессиональными медицинскими интересами, сколько ее потенциалом как объекта в его проекте по эмансипации. Во время консилиума Кирсанов наблюдает за поведением Кати и поражается силе ее характера, а также тому, как стойко и спокойно она переносит ситуацию: «Кирсанов увидел, что такая девушка заслуживает, чтобы заняться ею…» [там же, 11: 298]. Даже несмотря на то что слово «заняться» здесь, несомненно, означает «проявить интерес в профессиональном плане», он, безусловно, берется за дело Кати из-за ее сильного характера, что вряд ли можно считать медицинским соображением; напротив, клинический подход обычно подчеркивает важность изучения болезней, а не лечения людей – индивидуальность пациента, таким образом, преуменьшается[301]. Более того, объясняя свой отказ обсуждать ситуацию Кати с ее отцом без ее разрешения, Кирсанов приводит чисто идеологическое обоснование своего решения и ясно дает понять, что его идеологические принципы превалируют над профессиональной этикой: «Я принимаю правило: против воли человека не следует делать ничего для него; свобода выше всего, даже и жизни» [там же: 294]. Его роль врача в случае с Катей во многом символична и вписывается в схему спасения женщин мужчинами в прямом и переносном смысле (ср. спасение Веры из «подвала» ее семьи Лопуховым; спасение Рахметовым, изучавшим сначала естественные науки, а затем филологию, молодой вдовы, которую понесла лошадь; освобождение самим Кирсановым проститутки Насти Крюковой от развратной жизни).
Распределение ролей «спасатель»/«спасенный» и «врач»/«пациент» по гендерному признаку (как мужчина/женщина соответственно) несколько подрывает феминистскую направленность романа. Так, один из ранних критиков романа, радикал Николай Шелгунов, негативно оценивал Веру Павловну как образец эмансипированной женщины именно потому, что ее неоднократно спасают персонажи-мужчины [Drozd 2001: 17]. Ассоциация научного подхода и медицинского авторитета с мужественностью была заметна в трудах французских натуралистов того времени: в частности, у Эмиля Золя, как отмечает Э. Байфорд:
…образ «научного наблюдателя» и идеал научного «стиля» систематически почитаются за мужественность. Образ врача, который становится популярным персонажем эпохи, имел схожие коннотации. У Чернышевского он сочетается с ролью учителя и освободителя [Byford 2003: 219].
Таким образом, профессия врача обычно считалась сугубо мужским занятием; как провозгласил Мишле: «„Что такое женщина? Болезнь“ (Гиппократ). – Что такое мужчина? Врач» [Michelet 1893–1899, 34: 270][302]. Поэтому весьма символично, что Вера Павловна решает сделать медицинскую карьеру, чтобы обрести не только социальную и финансовую, но и эмоциональную независимость[303]. И все же факт остается фактом: по большей части в сюжете романа функции освободителей и лекарей, как буквально, так и метафорически, берут на себя мужчины.
Отмеченная Байфордом тройственная роль врача особенно ярко проявляется в эпизоде с Настей Крюковой. Во время своей первой встречи с проституткой Кирсанов проявляет себя прежде всего как медик: в отличие от осмотра Кати, он слушает грудь Насти и ставит ей диагноз «туберкулез». Однако он объясняет ее болезнь не столько физическими причинами, сколько изнурительным образом жизни и особенно связанным с ним чрезмерным пьянством – и тем самым косвенно высказывается о моральной неприемлемости ее занятия. Медицинское заболевание – туберкулез – предстает здесь не столько как физическое расстройство, сколько как внешнее проявление нравственного и социального недуга. Наконец, помогая Насте рассчитаться с хозяйкой публичного дома и начать самостоятельную и честную жизнь, Кирсанов берет на себя роль социального эмансипатора. Важно отметить, что медицинское вмешательство героя оказывается довольно неудачным: ему удается лишь задержать развитие болезни, которая в итоге убивает Настю. Однако его нравственное и социальное влияние на жизнь Насти глубоко: когда она появляется в романе в качестве одной из швей в кооперативе Веры Павловны, читатель видит уже исправившуюся женщину, отказавшуюся от своего позорного прошлого и зарабатывающую на жизнь честным трудом.