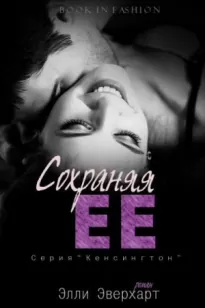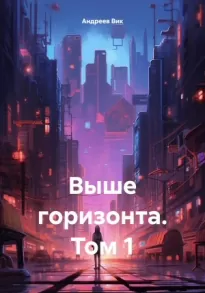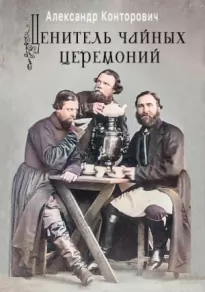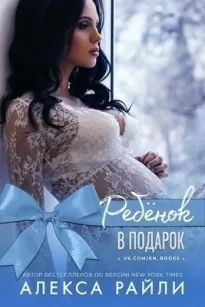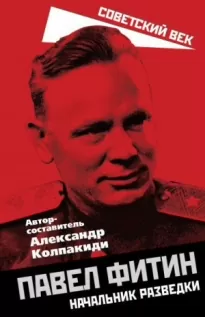Сын Яздона
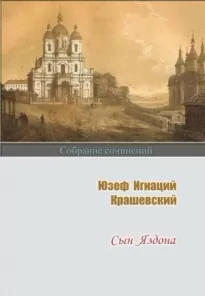
- Автор: Юзеф Крашевский
- Жанр: Проза / Историческая проза
Читать книгу "Сын Яздона"
Затем он увидел, что лошадь епископа остановилась как вкопанная, а перед ним вместо козы, которая куда-то исчезла, показалась женщина высокого роста, в чёрном платье, подпоясанная верёвкой, босая, с длинными волосами на плечах.
Ворон, который Беты никогда не видел, но слышал о ней, что имела страшную силу, слез с коня и с любопытством из-за дуба начал слушать и присматриваться.
Призрак или женщина, говорил он, сначала крикнул:
– Стой!
Конь Павла врылся копытами в землю, Ворон видел, как на нём дрожала кожа.
– Я здесь! – стала она смеяться. – Видишь! На твоей дороге везде… всегда! Чтобы ты не забыл, что мою душу имеешь на совести! Ты взял меня… я должна ходить за тобой. В первые дни ты поклялся, что меня не оставишь… до смерти.
Вот я тебя до смерти бросить не могу. Буду тебя преследовать, буду за тобой гоняться.
– Дьявол! – проговорил епископ изменившимся голосом. – Говори, чего ты хочешь от меня? Выкуп тебе дам, сколько пожелаешь. Уйди с глаз долой!
– Никогда! – рассмеялась женщина. – Ты – мой, я – твоя, и в аду нас ничего не разделит.
А потом смех разлетелся такой, что Ворон, как говорил, уши себе заткнул.
– Ничего не хочу от тебя, – говорила потом женщина, – только бы меня обратно взял, потому что я жена твоя, согласно закону Люцифера.
И она дико смеялась.
– Епископ и монашка! Отличная пара! Я не отпущу тебя!
Сойди с коня, пойдём ко мне! Отдохнём.
Она начала приближаться к лошади. Епископ ударил её по крупу, так что чуть не упал, когда лошадь встала на дыбы.
Осторожный Ворон на помощь идти не отважился, глаза женщины тревожили его так, что он не мог тронуться с места.
Чем большую епископ показывал тревогу, тем этот призрак сильнее, сердечнее смеялся. Вытянув к нему исхудавшие белые руки, подняв голову, она повторяла:
– Пойдём, сядем отдохнём под деревом. Никто не видит нас, кроме дьяволов, наших слуг. Пусть они порадуются! Дам тебе такой поцелуй, как тот первый, что спалил мои уста навеки! Пойдём! Пойдём!
Епископ с конём отступал всё дальше. От этой тревоги его охватило какое-то безумие, он схватил копьё, которое имел под рукой, прицелился, кинул – оно просвистело в воздухе.
Ворон закрыл глаза, потому что знал, что у Павла была опытная рука и почти никогда не промахивался. Думал, что увидит труп.
Затем послышался ещё более страшный смех. Копьё торчало, дрожа, в стволе дерева.
Ворон всем святым клялся, что из ствола брызнула ручьём красная кровь и потекла, а неустрашимая Бета стояла на месте. Увидев это, епископ, постоянно отступая с конём назад, слез с него и упал бессознательный на землю тут же при Вороне.
Только тогда тот соскочил помогать ему, а когда огляделся, призрака уже не было.
Издалека он увидел её, идущую в лес, она держалась за голову, качалась как пьяная.
Ворон не скоро мог привести в себя епископа; растирал его, а когда тот открыл глаза и начал спрашивать, не признался ему, что был всему свидетелем. Предпочёл солгать, что, прибежав, нашёл его лежащим на земле.
Слушая повествование, Зоня радовалась, хлопала в ладоши – чего Ворон понять не мог.
Вернувшись с этой охоты, епископ на несколько дней слёг.
Привели к нему монаха итальянца, жителя Салерно, который знал медицину, потом другого из Кёльна, ученика славного Альбертуса.
Сидели рядом с ним оба и поили его, обкладывали несколько дней, а оттого, что человек был железный, встал после этой болезни довольно скоро. Несколько дней потом он не решался выходить, а когда должен был выехать, послал вперёд на разведку людей, не видно ли где проклятой бабы.
Его уверяли, что нигде её не было. Епископ выехал, но на дороге к Вавелю увидел её, стоящую у забора.
Увидев его, она поздоровалась, приложив руку ко рту.
Поплелась потом за ним.
Он не мог повернуть, потому что его уже в костёле ждали, а тут она показалась вновь. Была постоянно у него на глазах, превращаясь в разных чудовищ, так что ослабевшего Павла отвезли домой.
Порой в течение нескольких дней она вовсе не показывалась. Павел становился сильнее, думая, что конец пришёл этой пытке. Затем, когда меньше всего ожидал, она появлялась у него на дороге, в лесу, у перевоза, в костёле, и становилась так, что её взгляда он не мог избежать.
Её взгляд имел такую силу, что Павел, встретив его, уже не мог оторвать глаз. Хотя не было её какое-то время, тревога шла с ним постоянно, он оглядывался, ему казалось, что замечает её, хотя её не было.
Он видел её в снах, вскакивал ночами, звал челядь, а люди, вбежав, находили его в середине комнаты, трясущегося, показывающего на чёрные углы комнаты, в которых ничего, кроме темноты, не было.
Это беспокойство, которое вынуждало его искать какое-нибудь страстное развлечение, чтобы заглушить навязчивое воспоминание, побуждало его к заговорам и махинациям. Ненависть к Болеславу и Лешеку увеличивалась от того, что ничего им сделать не мог. Он хотел мести.
Он жил то в Силезии у князя Опольского, то во Вроцлаве, то в Плоцке, создавая заговоры против своих князей. Довольно долго это продолжалось без заметного эффекта. Князь Болеслав ободрял себя тем, что приятели епископа покусится на него не посмеют.
Попытки заключить мир со стороны князей совсем не удавались. Когда его позвали из костёла в замок, он шёл на Вавель со словами язвительными и насмешливыми.
Встречая Лешека, он напоминал о своём заключении и замке в Серадзе. Болеслава ни разу не минуло повествование, как его, связанного верёвками, качая в повозке, везли дружки князя.
– Я это помню, – говорил он, – и пока человек жив, этого не забудет!
Кинга не могла его разоружить ангельской мягкостью и смирением, Болеслав – терпеливым молчанием.
И так это шло несколько лет; время не стирало, не смягчало, а усугубляло.
Всё реже, как мы говорили, епископ давал приближаться к себе князьям, в конце концов совсем порвал с ними. Люди епископа к замковым людям относились, как паны. Немецкие рыцари и польские Болеслава, обиженные за князя, говорили, что готовы, как Топорчики, во второй раз проучить Павла, чтобы был лучше, когда первая казнь не помогла. В городе, на улицах, когда встречались два отряда, редко обходилось без зацепок, иногда хватались за мечи.
Когда на постоялом дворе где-нибудь одни с другими дрались и шли жалобы или на Вавель, или к епископу, те угрожали друг другу.
– Этого ещё мало, это только начало. Чем дальше, тем лучше будет.
Епископ постепенно старался прибрать себе землевладельцев и новых краковских мещан, которые после татарских нашествий и уничтожения городов, шли туда с разных сторон и селилось.
В самом городе уже теперь краковские землевладельцы и рыцарство того уважения и силы, что в былые времена, не имели. Всё больше немцев, силезцев, мастеров, поселенцев разных профессий собиралось там много, сидя на особом своём праве, захватывая город и распоряжаясь в нём по-своему.
Уже в то время было видно – и это вскоре потом проявилось отчётливей – что Краков и краковская земля стали двумя разными вещами. Землевладельцы чувствовали там себя почти гостями, когда недавно были хозяевами.
Немцы здесь так же, как в других крупных городах, особенно в Силезии, загребали всё под себя. Старых аборигенов было мало, а те ни богатствами, ни предусмотрительностью с пришельцами сравниться не могли.
На самом деле этих немцев больше было на стороне Болеслава, который их тут селил, чем у епископа, который чужих не любил.
Краков на татарском пепелище строился иначе, изменился, вырос, сильней укрепился, но прежние свои черты утратил и всё больше делался похожим на немецкие города. Епископ редко там жил, слишком на виду не хотел быть, не на руку ему было, чтобы приезжающих к нему людей считали, показывали пальцем и выслеживали каждое его движение.
Он предпочитал гостить в Кунове или другой костёльной деревне, потому что там был более свободен, выезжал на несколько и несколько десятков дней, Бог знает, куда. Злые языки говорили, что в то время его видели в мирских одеждах, под каким-то чужим именем на силезких дворах, у Мазовецких князей, на границах Литвы.
Также к нему в Кунов приезжали такие люди, которых никто не знал. Какие-то совсем чужие князики, в своеобразных одеждах, говорящие на непонятном языке. Тех он принимал великолепно, закрывался с ними на совещания. Это были не немцы, потому что тех в то время знали и легко узнавали, но… какие-то язычники, пожалуй, с границ. Их люди и они выглядели чуждо и дико.
В Кунове епископу и потому было хорошо, что там с безумной, как её называли, Бетой не встречался. Дозорным двора и лесов было поручено пристально следить, не покажется ли она где-нибудь; но до сих пор её в округе не видели.
В течение нескольких месяцев Павел её совсем не видел.
Его это успокоило, он думал, что, пожалуй, умерла, избавив его от ненавистной тревоги. Зоня, которая везде за ним, как хозяйка, ездила, подтвердила это убеждение, что от неё наконец избавились. Ксендз Павел начал смелее выезжать на охоту, уже особенно не опасаясь встречи с ней.
Было это как-то осенью, когда однажды под вечер вместе с Вороном, не отступающим от него, они заехали в лес и заблудились.
Ворон в лесу плохо давал себе отчёт, так, что чаще епископ его, чем он пана, выводил из трущоб. В этот день как-то и сам Павел дороги найти не мог; начинало смеркаться.
Блуждая в пущи, уже только случайно, и как говорил Павел, каким-то счастьем, наткнулись на тропинку, на которой виднелись следы повозок и лошадей. Значит, они должны были вывести к какому-нибудь поселению. Ехали медленно, собаки шли за ними с высунутыми языками, смотрели только, скоро ли покажется дым или хата, – когда на дороге показался ручей.
Был это один из тех многочисленных, которые в языческие времена назывались святыми, потому что у их берегов проходили торжественные обряды, а людей воды их лечили. Там, где раньше лежали камни и эмблемы языческих идолов, позже ксендзы поставили часовню и крест, потому что людей ходить к водам отучить было невозможно, поэтому предпочитали эти места Божьим знаком освятить.
И тут также епископ издалека заметил малюсенькую деревянную часовню с крестиком на крыше, около которой висело множество лохмотьев, что больные с себя сбрасывали. В сумерках они ничего больше не заметили, только приблизившись, епископ увидел какую-то фигуру, стоящую около часовни, словно его поджидала.
В длинной чёрной одежде и вуали на голове, она казалась женщиной, а епископ, увидев её, задрожал. Она напоминала ему проклятую Бету. Он, однако, не остановил коня, не хотел, бросаясь в сторону, показать страх, хотя Ворон, следующий за ним, шикнул. Он также испугался, не была ли эта та безумная.
Поровнявшись с часовней, ксендз Павел посмотрел в сторону, когда затем чёрная женщина схватила за поводья медленно идущего коня и послышался тот знакомый страшных смех.
Иноходец епископа стоял как вкопанный, хотя тот его пришпоривал, испуганный Ворон бросился в сторону в трущёбы.
– Давно я тебя не видела! – отозвалась Бета. – Ты думал, что я забыла или простила. Нет, я лежала больная, не умерла, и вот, вот я!
Не отвечая, Павел панукал коня, желая её объехать. Дрожал от гнева и страха.