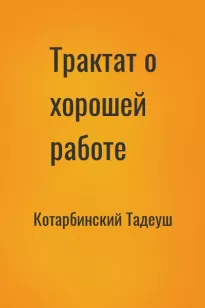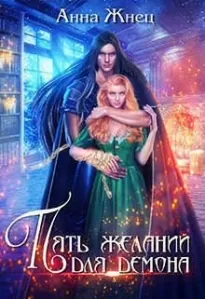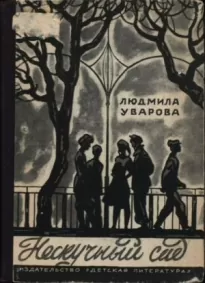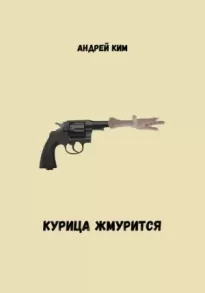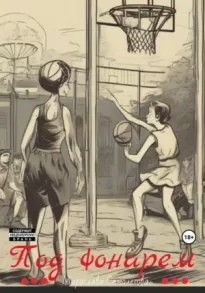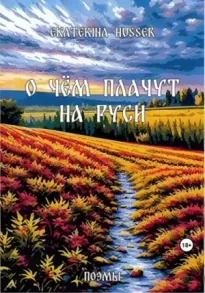Лица
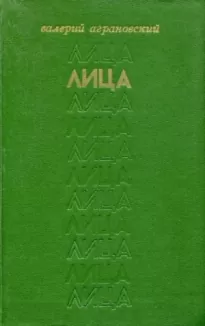
- Автор: Валерий Аграновский
- Жанр: Публицистика / Биографии и Мемуары
- Дата выхода: 1982
Читать книгу "Лица"
V. ДЕТСАД И ШКОЛА
КРУГЛЫЙ СИРОТА. Прежде чем приступить к детсадовской теме, я отправился к специалистам, занимающимся теорией дошкольного воспитания, и задал такой вопрос: «Детсад — это благо или вынужденная необходимость?» Мой интерес не затрагивал практической деятельности какого-нибудь конкретного детского учреждения и тем более всех садов, к которым мы давно и прочно испытываем чувство искренней благодарности за героическую заботу о наших детях. Но поскольку мне предстояло знакомиться с детсадом, в котором прожил до своих шести лет Андрей Малахов, я был намерен подковаться теоретически, а потому и задал вопрос о благе и необходимости.
Уже начало ответа не сулило определенности. «Видите ли, — осторожно сказали ученые, — смотря как подойти». Мы подходили и так, и эдак, и вот что из этого получалось: с одной стороны, детсадовское воспитание имело бесспорные преимущества перед домашним, но, с другой стороны, домашнее воспитание имело не меньше преимуществ перед детсадовским. Самое же замечательное состояло в том, что их плюсы и минусы, в отдельности поддаваясь «взвешиванию», не позволяли, однако, при сравнении сделать окончательный вывод ни в пользу того, ни в пользу другого метода воспитания. Сейчас, когда я изложу читателю некоторые условия этой странной «задачи», он тоже окажется в положении человека, который должен определить скорость движения локомотива, исходя из расстояния между городами и возраста машиниста.
Представьте себе: детсад, используя единый для всех режим и предъявляя к детям одинаковые требования, помогает им довольно быстро и безболезненно адаптироваться, то есть приспособиться к окружающей действительности, что есть безусловный плюс. Семья, в свою очередь, вольно или невольно растит индивидуалиста, которому в будущем предстоит испытать «лишние» жизненные осложнения — что есть безусловный минус. Следует ли отсюда вывод, что детсад — благо для ребенка? Нет, не следует. Потому что детсадовская адаптация достигается главным образом за счет нивелировки индивидуальности: не зря говорят, что хорошие дети в саду непременно что-то теряют, плохие — приобретают, а прочие остаются «при своих», поскольку единые требования и режим как раз и сориентированы на их средний темперамент, средние физические возможности и, увы, средний интеллект. Но можно ли отсюда сделать категорический вывод, что детсад не благо? Вновь нельзя, так как никто не способен с научной достоверностью определить, что хуже, а что лучше, уж коли иначе не получается: то ли нивелировка индивидуальности во имя ранней адаптации ребенка, то ли отказ от адаптации во имя раннего расцвета индивидуальности.
Конечно, детсад дает ребенку многое из того, что он не получает в семье: и радость общения со сверстниками, дефицит которого ребенок постоянно ощущает дома; и возможность активно двигаться, в чем непременно ограничивают его родители, боясь лишних синяков и не понимая, что ребенок, став малоподвижным, одновременно теряет в любознательности, в дотошности, в смелости, в глазомере; и постоянный контакт с педагогом, что, несомненно, отражается на общем развитии ребенка, и т. д. Однако при всем при этом дети лишены в саду душевного комфорта, или, как говорят ученые, «эмоционального благополучия», без которого они не могут полноценно развиваться. И это понятно: нельзя заставить воспитательниц с истинно материнской любовью, лаской и вниманием относиться к каждому детсадовскому ребенку, брать его на руки, целовать, шептать на ухо нежные слова, одним движением бровей поощрять или наказывать, как это делают родители. Мы, конечно, стремимся к такою рода тонкому воспитанию, потому и работают в детских садах только женщины — «искусственные матери», но их неестественность все равно заметна детям, не говоря уже о том, что на каждую «маму» приходится группа в двадцать, а то и в тридцать человек. И получается, что из многих анализаторов ребенок вынужден пользоваться в саду чуть ли не единственным — слухом, улавливая, как правило, однотонно произносимые педагогом фразы, обращенные сразу ко всем: «Взялись за руки! Сели за стол! Вытерли слезы! Дружно сказали!» Это, как ни печально, сужает эмоциональную сферу детей, тормозит эмоциональное развитие, а ведь оно есть начало нравственного, поскольку именно от душевного благополучия зависит, будут ли дети непринужденными или скованными, искренними или скрытными, равнодушными или отзывчивыми, добрыми или злыми.
Но опять же никто не может с научной достоверностью взвесить и определить, какие из перечисленных потерь и приобретений скажутся больше, а какие меньше на дальнейшей судьбе ребенка, — стало быть, мы вновь лишены возможности в принципе установить, благо детсад или не благо.
Что же нам делать? И вообще — к чему я затеял этот полемический экскурс в теорию, да еще нарочито его заострил? А к тому, уважаемый читатель, что у нас остается единственный критерий, подсказанный здравым смыслом: хорошо сегодня, сейчас, сию минуту ребенку? — значит, ему и в будущем на пользу; плохо? — значит, во вред. Такой подход немедленно переводит разговор из теоретической плоскости в сугубо практическую, потому что оценка детсадовского «блага» становится зависимой от совершенно конкретных вещей: от того, какой детсад мы имеем в виду, какие в нем работают люди, как исполняют свои обязанности, что представляет собой ребенок, какова реальная ситуация в его семье.
Так вот, возвращаясь к Андрею Малахову, три полных года отдавшему детскому саду, я могу с уверенностью сказать, что жилось ему там скверно. К сожалению, за минувшие десять лет от этого сада ничего не осталось, даже здания, где он находился, и потому видеть его собственными глазами мне не пришлось. Судя по воспоминаниям Малаховых, это был обыкновенный детсад, не бедный и не богатый, в меру оборудованный, с относительно приличным подбором сотрудников, короче говоря, типичный районный, который в отличие от специализированных не избалован дотациями и дополнительным шефским вниманием. Был он ежедневным, но «с подстраховкой», а это значит, что дети, почему-либо не взятые родителями, могли в крайнем случае оставаться на ночь. Этот «крайний случай», как понимает читатель, превратился для Андрея в систему: оба родителя и учились и работали, а бабушка Анна Егоровна из-за сердечных недугов не только не могла следить за внуком, но и сама частенько нуждалась в уходе, как малое дитя. Добавлю к сказанному, что никаких претензий по поводу еды, игрушек, чистого белья, температуры воздуха в помещении и прочих составных детсадовского быта я от Малаховых ни разу не слышал.
Андрей ходил в сад как на каторгу — есть такие дети, у родителей обычно сердце обливается кровью, да положение безвыходное, только один расчет: привыкнут. И если большинство детей действительно приживается, Андрей не прижился, а всего лишь понял бессмысленность бурных протестов. Все три года он прожил в саду в тоскливом ежевечернем ожидании: возьмут его сегодня или не возьмут? — потому что, как ему ни было плохо дома, а все же лучше, чем в саду. «Там всё было вместе и всё по команде, — вспоминает Андрей с горько-презрительной интонацией в голосе. — А воспиталки только и делали, что всех воспитывали». Увы, если бы так! Полагаю, однако, что это не тогдашняя, а сегодняшняя оценка Андреем детсада: в ту пору он больше страдал от избытка одиночества, нежели от недостатка, и еще от того, что педагоги почти не обращали на него внимания. Судите сами: друга он себе не завел, в праздничных концертах ни разу не участвовал, никогда не наряжался «зайчиком» или «снежинкой» и не был «дежурным по природе», о чем сегодня, уже сидя в колонии и пережив далеко не детские испытания, вспоминает с нескрываемой болью и обидой.
Что же случилось с нашим героем? Почему он оказался в положении изгоя? Я не знаю всех причин, но об одной скажу, поскольку она известна наверняка: Андрей шепелявил. Вместо «шайба» он говорил «файба», вместо «что» у него получалось «фто», а «шкафчик» он называл «фкафчиком». Читателю, усомнившемуся в солидности и достаточности этой причины, я готов посочувствовать: он никогда не сможет работать с детьми. Если бы он знал, как много человеческих судеб коверкается из-за того, что в детской, особенно в школьной, среде существуют «очкарики», «жиртресты», «заики», «рыжие» и такие вот косноязычные, как наш Андрей, которые хоть чем-то, но отличаются от основной массы! Если бы он умел предположить, какие самосомнения могут аукнуться в этом ранимом возрасте, чтобы откликнуться в более позднем сознанием неполноценности! Если бы он понимал, как важно, чтобы рядом с детьми оказался в столь ответственный момент взрослый человек, — я уж не говорю: умный и тонкий, — элементарно внимательный, способный заметить страдания ребенка, умеющий успокоить его и пристыдить сверстников, чья беспощадная реакция тем и опасна, что естественна!
Но каждый ли детсадовский педагог обратит внимание на «обыкновенную» стеснительность ребенка и тем более станет доискиваться ее первопричины? «Отличное качество! — подумает он. — Всем бы такое!» А потом заметит вдруг, что мальчишка перестал учить стихи и напрочь отказался петь, но ему даже в голову не придет, что начинающееся изгойство ребенка имеет один корень с «милой» стеснительностью: дефект речи! И педагог отсечет этот корень как несуществующий, а потому не только не пригласит врача-логопеда, но и не будет сдерживать эмоций «жаждущих крови» сверстников. А несчастный ребенок, наглухо уходя в себя, уже метит красным карандашом «свой собственный» стул, на котором сидит, и с боем выдирает его из-под попок «врагов», физически отдаляясь от коллектива на отвоеванном стуле. И торопится первым проглотить обед, чтобы раньше всех захватить оловянных солдатиков, которых иначе он уже из получит, и забирается с ними в самый дальний угол игровой комнаты.
Неужто у читателя все еще есть сомнения по поводу того, откуда взялась у Андрея такая ненависть к детскому саду, почему он часто плачет по ночам, забившись под одеяло, отчего чувствует себя не просто лишенным душевного комфорта, но одиноким, всеми брошенным и слабым? А добавьте к этому прохладную атмосферу, царящую у Андрея в доме, и дефицит защиты, и накопленную против родителей агрессию, направленную, однако, против детей, — к чему все это может привести?
Наука утверждает: если ребенок болезненно чувствует зависимость от окружающих и слабость перед ними, у него появляется желание быть сильным для того, чтобы подчинить их себе. И это естественно. Патология характера материализуется именно там, где происходит борьба двух начал: комплекса неполноценности и стремления к превосходству над окружающими.
К несчастью, это была не единственная неверная жизненная установка Андрея, взявшая начало в детском саду. Однажды я спросил его, дрался ли он с мальчишками, защищал ли себя и свою честь. «А как же! — сказал Андрей. — Первым оденусь, а потом ка-ак попрячу их вещи! Или ка-ак перепутаю в шкафчиках! Во потеха!» — «Нет, — сказал я, — а в честной драке? На кулаках?» Он ответил вполне серьезно: «Сначала посмотреть надо, кто к тебе лезет, сильный или несильный. Потому как, может, совсем не драться нужно, а заплакать или пожаловаться».