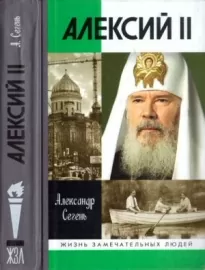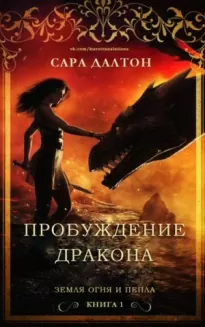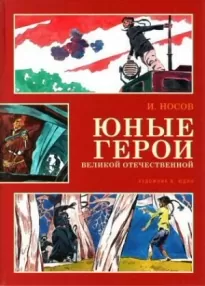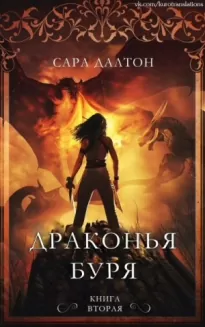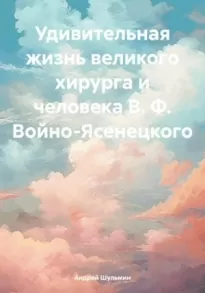Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)
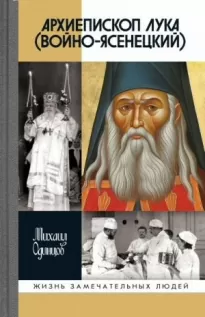
- Автор: Михаил Одинцов
- Жанр: Биографии и Мемуары / Религиоведение
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)"
Взамен епископа Луки митрополит Сергий (Страгородский) в ноябре 1926 года направил в Ташкент в качестве временного управляющего епархией архиепископа Дионисия (Прозоровского). Однако его даже не впустили в Сергиевский храм «активисты» из числа священников и мирян, поддерживавших епископа Луку. Об этих событиях мы узнаем из доклада протоиерея Михаила Андреева, писавшего: «21 ноября 1926 г. архиепископ Дионисий приехал в Ташкент, явился с визитом к Е[пископу] Луке и был здесь тяжко оскорблен. В присутствии Е[пископа] Луки председатель приходского совета грубо сказал В[ладыке] Дионисию, “если только Вы придете в наш храм, то мы закидаем Вас гнилыми яблоками и тухлыми яйцами”, а священник, ближайший сотрудник Е[пископа] Луки, добавил,… что он [архиепископ Дионисий] войдет в храм только с нарядом милиции».
Пробыв в Ташкенте с полгода, архиепископ Дионисий вынужден был вернуться восвояси ни с чем. Епископ Лука оставался в Ташкенте, не приняв назначения в Рыльск и по-прежнему считая себя правящим епископом. Хотя однозначно сказать, управлял ли он епархией и когда ушел на покой, трудно, поскольку сохранившиеся за этот период сведения достаточно противоречивы.
Конфликт с «андреевцами» обострился после того, как освобождeнный из тюрьмы епископ Сергий (Лавров) в ответ на «гонение» со стороны «тихоновцев» объявил о повторном уходе в стан раскольников. Об этом он незамедлительно сообщил через газету. «Настоящим обращением, – писал он в «Правде Востока», – я аннулирую значение своих канонических посланий». По его словам, они вызывают в нeм чувство досады и раскаяние. Он уверял, что идеям нового движения давно сочувствовал и даже выступал публично с целью их пропаганды[94]. О своем «обновленческом выборе» он заявил 20 февраля 1927 года во время службы в Сергиевском храме, добавив, что епископ имеет неотъемлемое право на устроение личной жизни. Для нового назначения Сергий выехал в Москву. Вскоре в обновленческом журнале оперативно публикуется его проповедь на тему: «Суббота для человека, а не человек для субботы» с его «новыми мыслями», произнесeнная в первую неделю Великого поста в церкви Троицкого подворья на Самотеке[95].
И все же Луку смущала жeсткость, с которой обошлись с Сергием Лавровым ташкентские собратья и митрополит Сергий (Страгородский). Так ли уж необходима обязательная публичность покаяния бывших обновленцев, возвращающихся в Православную церковь? С этой дилеммой он поделился с паствой. Сохранилось одно из его обращений на эту тему:
«Вчера случилось ужасное душепотрясающее событие! Мой собрат, епископ Сергий, перешeл в раскол «обновленчества». Вчера и сегодня он служил у ужасного для всей туркестанской епархии протоиерея Брицкого. Сегодня мне было очень тяжело, и я не мог молиться ни за вас, ни за себя. Я и раньше знал шаткость и уклон епископа Сергия к обновлению, но думал – раз его избрал св. патриарх Тихон, то, не приняв епископа Сергия, мы пошли бы против него. Я со слезами на глазах просил его покаяться, заклинал именем Христа, но он не хотел каяться. Я думал, что он исправился, когда получал от него письма, в которых он писал, как истинный борец против обновления. Но оказалось, что я жестоко ошибался. Многие из вас мне говорили, чтобы я, как перешeл сюда, освятил церковь, но я сказал, что пока я – епископ Ташкентский и Туркестанский, эта церковь не будет освящаться… и вот теперь, когда я сегодня освящал эту церковь, со мной случилось то, чего я не желал бы каждому из вас. Когда я после этого служил литургию, то я чувствовал, что мне Бог подсказывает, что я не так делал, как должно быть… Я осуждал епископа Сергия, а меня осудил Бог. Я не знаю, что было в душе епископа Сергия, когда он переходил к обновленцам. Нам нужно молиться за него, а не осуждать его… Также я не позволю, чтобы захотевших перейти к нам обновленцев заставлять каяться публично. Пусть придут ко мне, и я буду накладывать на них епитимью; но каяться публично они не будут. Итак, не будем осуждать епископа Сергия, а будем молиться за него»[96].
Прошлогодняя неудача с назначением архиепископа Дионисия (Прозоровского) в качестве временного управляющего Туркестанской епархией показала, что, проводя смену архиерея более настойчиво, можно было только усугубить кризис в управлении епархией. Не будем забывать, что совсем недавно, в июле 1927 года, Сергий (Страгородский) и поддерживающие его епископы выступили с известной Декларацией об отношении к советскому государству[97]. Она вызвала раскол в церкви, отпадение ряда епископов от митрополита Сергия (Страгородского). В этих условиях он стремился удержать вокруг себя епископат, не допустить отпадения от Патриаршей церкви нескольких десятков староцерковных общин, раскиданных на огромной территории бывшего Туркестанского края. Может, он и хотел бы оставить на Ташкентской кафедре епископа Луку. Но и сам Лука в тот момент не мог определиться, с кем он и как ему быть.
Тогда в июле – октябре 1927 года Сергий (Страгородский) делает вторую попытку «уврачевать» конфликт в Туркестанской епархии. Последовали назначения епископа Луки в город Елец, викарием Орловского епископа, потом – в Ижевск, епархиальным епископом. Но и в этот раз ни одно из этих назначений епископ Лука не принял. Как он впоследствие вспоминал, митрополит Новгородский Арсений (Стадницкий), живший тогда в Ташкенте на положении ссыльного, настойчиво советовал Луке никуда не ехать, а подать прошение об увольнении на покой. Может быть, в отношении Ижевска так и было; касательно же Ельца вряд ли, поскольку Арсений (Стадницкий) в тот момент находился вне Ташкента. Луке казалось, что он должен последовать совету маститого иерарха, бывшего одним их трех кандидатов на патриарший престол на Соборе 1917/18 года. Он действительно подал прошение и был уволен на покой. С этого времени, лишенный церковной и университетской кафедр, профессор-хирург проживал в Ташкенте как частное лицо. Многотрудным и неоднозначным событиям церковной жизни в Ташкенте в 1926–1930 годах по возвращении из ссылки в Туруханский край в автобиографии Луки уделено лишь несколько абзацев. Но все, что случилось с ним после увольнения на покой, он считал «началом греховного пути и Божиих наказаний за него»[98].
Теперь многое зависело от того, кто придет на смену епископу Луке. Завоевать доверие ташкентской паствы, у которой отнимали любимого архиерея, было крайне сложно. Кандидатами на Ташкентскую кафедру в то время могли быть только те архиереи, которым власти разрешили бы отправиться к месту назначения, либо те, кто уже проживал на территории епархии. В 1927 году в ссылке в Средней Азии и Казахстане находилось более 25 архиереев, среди которых митрополит Новгородский Арсений был самым почтенным и авторитетным. Но он отвел свою кандидатуру, считая, что занятие им данной должности лишь навредит епархии. А может, втайне еще надеясь на возвращение после ссылки в Новгородскую епархию. При этом он не отказывался от деятельного соучастия в жизни епархии. Он переписывался с митрополитом Сергием (Страгородским), обсуждая с ним церковную политику, в том числе и ташкентские проблемы, был близок к туркестанским архиереям и оказывал на них влияние.
В конце концов митрополит Сергий в назначении правящего архиерея на Туркестанскую епархию остановил свой выбор на митрополите Никандре (Феноменове). Тот проживал в Ашхабаде после своей второй среднеазиатской ссылки и не имел возможности последовать ранее данному назначению на Одесскую кафедру.
Вступив в управление Туркестанской епархией, митрополит Никандр вынужден был служить в единственном тогда в Ташкенте Сергиевском храме, который кроме него «своим» продолжали считать различные церковные группировки – в том числе и так называемые «лукинисты», то есть прихожане, считавшие епископа Луку правящим архиереем и направлявшие многочисленные прошения об оставлении его в Ташкенте. Там же проводили свои службы и сторонники епископа Сергия (Лаврова).
Первое время приличного жилья у митрополита Никандра не было – он, как и все ссыльные архиереи, искал приют у благодетелей или снимал комнату. Как правило, это был старый район за городским Боткинским кладбищем. Ссыльные архиереи и священники проживали, иногда по несколько человек в комнате, в убогих саманных домиках. Нередко они не могли снять даже самую дешевую квартиру из-за страха домовладельцев быть привлеченными по «церковному делу».
Ближайшим и деятельным помощником митрополита Никандра стал протоиерей Михаил Андреев. Они оба подвергались со стороны враждующих церковных лагерей оскорблениям и угрозам. Чуть ли ни при каждом появлении Никандра в храме к нему подступали с одним и тем же вопросом: «Как Вы смеете служить с еретиком?» и требовали запретить протоиерея Михаила в служении. Протоиерея Михаила Андреева называли «безблагодатным», «еретиком» и другими более бранными словами.
Летом 1928 года в письме митрополиту Сергию протоиерей Михаил сообщал, что «положение митр[ополита] Никандра тяжелое, он одинок, и действия Е[пископа] Л[уки] он переживает очень болезненно. Еще ужасно, что только один храм у нас – будь другой – Вл[адыка] Никандр не остался бы в Сергиев[ском] храме ни минуты».
Бывало и так, что как только митрополит Никандр выходил на амвон с проповедью, «лукинистки» демонстративно покидали храм со словами «не дает говорить нашему владыченьке Луке» или массово шли под благословение к находящемуся на покое епископу Луке в то самое время, когда правящий архиерей в непосредственной близости произносил проповедь, служил молебен или стоял с крестом на солее. Не отставала и «обижаемая» сторона. Приверженцы протоиерея Михаила в лицо называли епископа Луку «живоцерковником».
Зримым свидетельством истинного примирения епископа Луки и протоиерея Михаила могло бы стать их совместное богослужение. На то, чтобы оно состоялось, у митрополитов Сергия (Страгородского), Никандра (Феноменова) и помогавшего им Арсения (Стадницкого) ушло полтора года. Протоиерей Михаил, хоть и просил большего (а именно публичной сатисфакции), но всегда был готов к сослужению. А вот епископ Лука – нет. Признав в конце концов полномочия митрополита Никандра, соглашаясь с необходимостью искреннего публичного примирения всех сторон, он с трудом преодолевал разлад, а служить в немирном состоянии, очевидно, не мог.
Документы свидетельствуют о неоднократных попытках в 1928 году митрополита Никандра пригласить к общему богослужению епископа Луку. Но всякий раз тот отказывался. Тогда ему предлагалось служить в храме одному… но и тут отказ. На праздник Вознесения в архиерейском облачении епископ Лука все-таки пришел, стоял службу, но в алтарь не входил и просил у правящего архиерея разрешения причаститься. Это был не единственный случай, когда епископ Лука отказывался сослужить митрополиту Никандру и создавал для него непростые этические проблемы.
Наконец, 9 июня 1929 года в Успенском пригородном храме «на Куйлюке» состоялось богослужение, ознаменовавшее примирение «партий» староцерковной общины Ташкента. В дальнейшем епископ Лука просил разрешения на служение у правящего архиерея. Таким образом, взаимоотношения между архиереями были введены в каноническое русло. Противостояние если и оставалось, то в значительной мере ушло под спуд, и скандальных историй с публичным оскорблением духовенства после лета 1929 года, как кажется, не случалось.