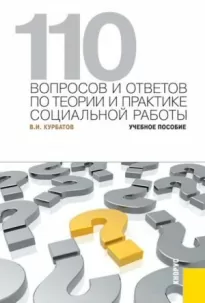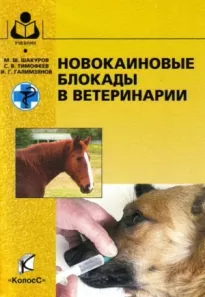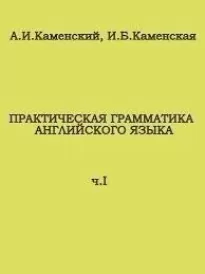Тоталитаризм и вероисповедания
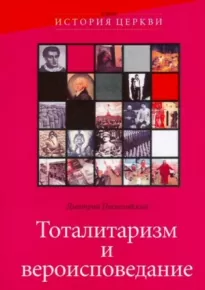
- Автор: Дмитрий Поспеловский
- Жанр: История: прочее
- Дата выхода: 2003
Читать книгу "Тоталитаризм и вероисповедания"
159
к тому же двигались на север по стопам наступавшей Белой армии и нередко на местах отбирали свои бывшие земли у крестьян, да еще и наказывали крестьян, пороли их[16]. Во-вторых, сам Деникин решил не публиковать никаких проектов социальных реформ, пока не будет взята Москва, — реформы, мол, должны прозвучать из столицы. Так что в народе никто и не подозревал, что у белых есть социальная программа. Возможно, что откладывание обнародования проектов реформ до взятия Москвы было только отговоркой и неразумной к тому же, ибо только опубликованием проектов популярных реформ можно было бы разрушить большевистскую пропаганду, представлявшую белых реакционерами-реставраторами. Деникин вообще был против создания при нем законодательного органа на том основании, что общественность разделена на партии. Он заявил генералу Лукомскому: «Добровольческая армия отнюдь не может стать орудием политической партии»[17]. Тут-то и была его ошибка: в Гражданской войне может победить только идеологизированная сторона.
Политическая безграмотность Деникина сказалась и на его лозунге «Единой и неделимой», чем оттолкнуты были и меньшинства, и такие соседи России, как новообразованные Польша, Финляндия и прибалтийские республики. Вместо сотрудничества с гетманом Скоропадским и поддержки его Деникин отказывался иметь с ним дело. Скоропадский жаловался Краснову:
«Я ... генерал свиты Его Величества, не могу быть щирым украинцем ... но ... мне пришлось делать выбор — или самостийность, или большевизм, и я выбрал самостийность. Предоставьте народу жить, как он хочет. Я не понимаю Деникина. Давить, давить все — это невозможно. Для этого у Деникина нет сил и это не нужно...».
То же самое в отношении казаков. Деникин упрямо оставался верен союзникам, до конца Гражданской войны считал немцев чуть ли не самым главным своим врагом. И не мог
160
простить Краснову того, что он реалистически понял, что, пока немцы стоят на российской территории, только от них можно получать оружие для борьбы с большевиками и опираться на немцев, как на надежный тыл, что он и делал и даже писал императору Вильгельму о помощи. От немцев он получал оружие, которым делился с Белой армией. Деникинцы же называли казаков проститутками за получение оружия от врага. Деникин всячески подавлял признаки самостоятельности донских и кубанских казаков и их войск и в конце концов подчинил казачьи войска полностью белому командованию, вынудив Краснова уйти в отставку[18]. А осенью 1919 года он даже повесил председателя Кубанской Рады и ближайших его сотрудников за сепаратистские тенденции. После ликвидации автономии Донского войска, — пишет Краснов, — война против большевиков из национальной превратилась в классовую «и как таковая, не могла иметь успеха в беднейшем классе. Казаки и крестьяне отпали от Добрармии, и она погибла». Что касается расправы с кубанскими сепаратистами, то бывший кубанский атаман Филимонов считает, что она сыграла «значительную роль в общем ходе борьбы с большевиками на юге России и была одним из существенных поводов к катастрофическому отходу вооруженных сил юга России от Орла до Новороссийска»[19]. Тесно связанным с отсутствием четких и ясных программ был провал тыла. Именно из-за отсутствия тыла, отсутствия четких и прилично действующих органов власти и местной администрации в тылу у белых такое явление, как проигранная белыми битва между Тулой и Орлом осенью 1919 года превратилась в катастрофическое бегство почти без остановок до самого Черного моря.
* * *
Трагедия Белой борьбы была в том, что политически безграмотным военным пришлось вести политическую борьбу
161
(каковой всегда является Гражданская война) не только без поддержки партии, пользовавшейся наибольшей популярностью в народе, но еще в условиях взаимной вражды. Логически борьбу против большевиков должна была бы возглавить ПСР как партия русского крестьянства и значительной части интеллигенции. Но ПСР по «старой» народническо-социалистической традиции в офицерском мундире видела классового врага, реакционера и реставратора par excellence, хотя это было далеко не так. К тому же в ходе Первой мировой войны более половины офицеров погибли или стали инвалидами. Наибольшие потери были в пехоте, где в отличие от остальных армий русские офицеры первые поднимались в атаку и вели солдат за собой — первыми и падали. К 1917 году более 70% пехотных офицеров были вчерашние солдаты, отправлявшиеся прямо с поля боя (обычно отличившиеся особыми способностями) на кратковременные курсы и затем производившиеся в офицеры. Это были плоть от плоти остальных солдат. Не были они связаны со старым режимом ни сантиментами, ни офицерской традицией, что и отразилось в том, что на первый призыв белых генералов зимой 1917—1918 года откликнулось лишь 5 тысяч офицеров. В свою очередь, традиционные (классические) офицеры и, конечно, белое командование, видело в ПСР тех же большевиков, чуть «побледневших социалистов». Таким образом, «бракосочетания» между ПСР и белым командованием не произошло, а оно могло бы привести к победе, как это произошло в Германии, где ненавидевшие друг друга фельдмаршал Гинденбург и социалист Эберт заключили союз во имя спасения Германии от большевизма и совместными усилиями подавили большевистский мятеж спартаковцев в ноябре 1918 года.
Казалось бы, на Волге в январе 1918 года был шанс аналогичного союза в России, поскольку во главе тамошнего временного правительства стояла партия, имевшая одну из самых прочных крестьянских поддержек именно в Поволжье. Но с самого начала эсеровское правительство столкнулось с проблемами, преодолеть которые оно не сумело. Во-первых, у него не было армии, а попытка создать добровольческие отряды из местных рабочих и крестьян провалилась. При всей своей политической «грамотности» в обращениях к народу
162
они клеймили большевиков немецкими агентами и оправдывали борьбу с ними именно этим аргументом. Очевидно, общность социализма не позволяла построить свою антибольшевистскую пропаганду на идейных основах. При всей их нелюбви к офицерству эсерам пришлось призывать последних для создания регулярной армии. Офицерство не желало воевать под красным флагом, называло эсеровское правительство полубольшевистским. Обе стороны друг другу не доверяли.
Но тут появился кстати Чехословацкий корпус. Это были пленные чехи и словаки, которые в течение войны охотно сдавались в русский плен, не желая воевать за немцев. В России они добивались права воевать бок о бок с русскими. Таким образом были сформированы Чехословацкий корпус, но царское правительство тянуло с отправкой его на фронт как «изменников» своего государства — Австро-Венгрии. Когда под властью большевиков рухнул Восточный фронт, западные союзники приказали корпусу двигаться на Владивосток, чтобы там погрузиться на суда и прибыть на Западный фронт. Советское правительство согласилось беспрепятственно пропустить корпус с полным комплектом его оружия по железной дороге. И вот на вокзале Челябинска встретились два эшелона — пленных венгров-коммунистов, двигавшихся на запад для вступления в Красную гвардию, и чешского корпуса. Это были традиционные враги. Произошла ссора, несколько венгров было убито чехословаками, после чего Троцкий приказал разоружить корпус и дальше его не пускать. Но корпус отказался разоружаться и захватил Челябинск. Командование корпуса, будучи социалистами, находились в контакте с русскими эсерами и согласилось, с разрешения союзников стать первой временной армией Самарского правительства, вплоть до создания собственно русской армии.
Вместо налаживания добрых отношений и взаимодоверия с русскими офицерами и отказа от левацко-классовых установок, трения между правительством и русским офицерством достигли предела после того, как весной 1918 года в Уфе (куда к тому времени пришлось отступить эсеровскому правительству) появился Виктор Чернов, бежавший из своей квартиры в Москве (?) в момент появления чекистов с целью его ареста. Возглавив летом 1918 года Комитет членов Учредительного
163
собрания, он осудил своих собратьев по партии за сотрудничество с «золотопогонниками», пытался безуспешно вступать в переговоры с большевиками и призывал эсеров прекратить вооруженное сопротивление большевикам. Он утверждал, что, поскольку деревня, крестьянство относятся к большевикам отрицательно и села вооружены до зубов оружием, принесенным с фронта вернувшимися дезертирами, каждая деревня станет антибольшевистским бастионом, и большевики не смогут удержаться у власти. Естественно, такая позиция была неприемлема антибольшевистскому офицерству и западным союзникам, которые уговорили адмирала Колчака отправиться из США (куда он попал благодаря спасшим его от расстрела матросам) в Сибирь и возглавить там антибольшевистские правительство и борьбу, что Колчак и сделал. В начале ноября 1918 года Колчак с группой офицеров произвел переворот в Омске, провозгласил диктатуру, и был признан всеми белыми фронтами Верховным Правителем. Чернов и его деятели были арестованы, а затем отправлены заграницу. Так печально закончился опыт сотрудничества эсеров и офицеров.
Колчак лично был честнейшим человеком весьма умеренных политических взглядов и блестящим адмиралом. Но оказался весьма невежественным военачальником на суше. Кроме того, это не был человек масс, не умел перед ними выступать, а тем более обещать народу «златые горы». Оказался он и негодным гражданским администратором. Не разбирался в людях. Его окружали блюдолизы и проходимцы-циники. Вокруг него царила коррупция, и был весьма жестокий режим, который в конце концов настроил крестьянские массы против него[20]. Трагический конец Колчака широко известен: Чехословацкий корпус, захвативший и охранявший всю Транссибирскую железную дорогу, предательски охранял ее
164
и от отступавших белых и наконец в январе 1920 года на иркутском вокзале захватил Колчака и его окружение и передал их местному меньшевистско-эсеровскому «Политическому центру», но практическая власть была в руках большевистского ревкома, который и расстрелял Колчака 7 февраля.
Вероятно, самым убедительным свидетельством политического провала Белой армии был тот факт, что в начале 1921 года, сразу после эвакуации последних белых частей начались крестьянские бунты буквально по всей стране, а также Кронштадтское восстание. Это подтверждает отчуждение крестьян и от белых, и от красных. Ведь, казалось бы, так естественны были бы эти бунты в конце 1919 и 1920 году, чтобы открыть путь наступлению белых. Но такие восстания мы видим только в начале белой эпопеи (донские и кубанские казаки, Северный Урал и Поморье), когда восстававшие еще видели в белых своих освободителей. К 1920 году ряды этих потенциальных союзников явно и катастрофически поредели. А восстания крестьян против большевиков в начале 1920-х годов были слишком стихийны, без связи между собой, изолированы расстоянием друг от друга. Большевики их уничтожали поодиночке, соединив террор с пряником — НЭПом, с его восстановлением частного земледелия и на практике землевладения.