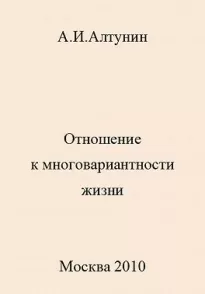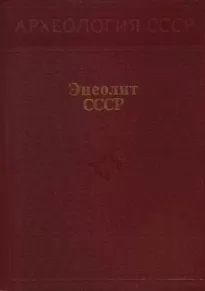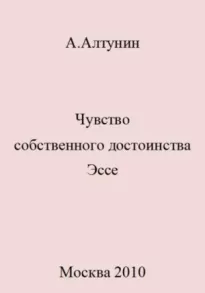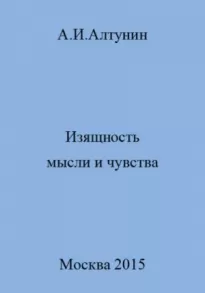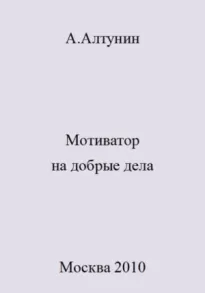Феномен пропаганды
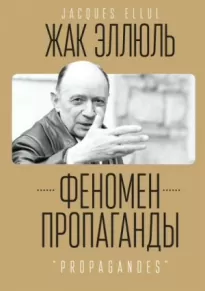
- Автор: Жак Эллюль
- Жанр: Публицистика / Социология / Культурология
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Феномен пропаганды"
Так выглядит первое из последствий, легко предсказуемое, с которым сталкивается власть, использующая демократическую пропаганду. Миф (картинка, приводящая к убеждению) не должен показывать оттенки, запрещает полумеры и тем более не допускает противоречий. Либо в него верят, либо отрицают целиком. Миф о демократии должен во всем соответствовать этой структуре, должен восприниматься однозначно и не вызывать сомнений, ведь по природе своей он такой же, как и любой другой миф. Чтобы во внешней среде в миф поверили безоговорочно, то и внутри демократического общества никто не имеет права в нем сомневаться. Нельзя, чтобы из недр демократии другой голос, направленный во вне, пытался его разрушить.
Разве можно представить себе, что пропаганда добьется поставленной цели, например в Алжире, если она противоречит сама себе: будет ли кто-либо, во Франции, в Алжире или где-нибудь еще, всерьез относится к обещаниям де Голля, произнесенным им от имени Франции, если тут же в некоторых французских газетах появляются статьи о том, что Франция не согласна с позицией своего Президента, или интерпретируют их неправильно. Такие разногласия вносят раскол и разрушают возможность достичь соглашения. Даже, если ФНО (Фронт Национального Освобождения) «знает», что это так, зачем об этом говорить?[308]
Это приведет к тому, что придется искоренить оппозицию, которая обнаружит, что народ не так уж единодушно принимает демократию в том виде, в котором ее насаждает власть. Это как раз то, что может полностью разрушить эффект пропаганды. Кроме того, это делается властью в расчете на большинство. Меньшинство, каким бы демократическим оно ни было, будет стараться противостоять такой пропаганде, именно потому, что она идет от власти. Так было во Франции, начиная с 1945 г., когда меньшинство, даже будучи согласным в принципе с понятием демократии, выступало против мифа о демократии. В подобных случаях власть, если она хочет сохранить эффективность пропаганды, не должна позволить меньшинству выражать свое мнение; но не означает ли это, что таким образом она посягает на то, что считается главным признаком демократии; мы уже говорили о том, что такого рода посягательства в виде цензуры, например, случаются во время войны. И здесь мы имеем дело с явлением, о котором предупреждали выше: факт пропаганды сам по себе свидетельствует о состоянии войны, а она требует единства народа, которого можно и нужно добиться искусственно: исключить возможность хоть какой-то оппозиции и запретить меньшинству выражать свое мнение, лучше повсеместно и официальными методами, а если не получится, то хотя бы частично и окольным путем.
Двигаясь в этом направлении, мы сталкиваемся с проблемой: чтобы миф был правдоподобен, он должен опираться на народные предания, иначе говоря, нельзя просто предложить какую-нибудь легенду, даже если распространять ее мощными современными средствами: в этот миф уверуют только в том случае, если он ляжет на ранее сформированные представления. Он станет распространяться в сознании масс, если найдет у народа отклик. Поэтому так важно, чтобы демократические народы в него тоже поверили. И, напротив, совсем необязательно, если власть будет разделять те же взгляды, ей достаточно быть уверенной в том, что пропаганда во вне и пропаганда внутри страны не противоречат одна другой, так как пропаганда в расчете на внешнего потребителя будет эффективной только в том случае, если народ внутри страны разделяет те же представления (это хорошо поняли в США между 1942 и 1945 гг.). Чем больше миф отражает верования всей нации, тем выше окажется его эффективность. Таким образом, и тут не обойтись без единомыслия.
Мы уже замечали, что пропаганда, любая пропаганда, склонна использовать культ личности[309]. В демократическом обществе это проявляется с еще большей убедительностью! Так как там принято восхищаться личностью. Демократия не терпит анонимности, она отрицает «массовость» и механистический подход. Ей нравится гуманистический порядок, где люди не просто люди, а личности. И задача пропаганды предоставить ей такой образ. Она должна создать личность. Не то, чтобы речь шла об идолопоклонстве, но все равно так и будет, если пропаганда хорошо справится с делом. Неважно, кто в итоге станет предметом обожания или идолопоклонства: человек в белой униформе и красной мантии, сияющий золотом наград и украшений, человек в синей блузе рабочего с кепкой на голове или в черном с иголочки костюме и фетровой шляпе. Все это дань пропаганды текущей моде и потакание чувствам Толпы. Демократическая толпа не слишком доверяет красной мантии, но с восхищением смотрит на фетровую шляпу, если она хорошо представлена. Нельзя не заподозрить пропаганду в том, что она лепит героя из политического лидера. Демократия с легкостью создает себе предмет обожания, как и любой другой режим. Клемансо, Даладье, де Голль, Черчилль, Рузвельт, Макартур – вот отличные тому примеры. И Хрущев прекрасно вписывается в этот ряд после того, как он развенчал культ предыдущей личности и примерил на себя образ вождя, он вошел во вкус и справился с ролью, немного иначе, но с той же легкостью, и не по своей прихоти, а подчинившись необходимости текущего момента. Ведь как-то нужно добиться единодушного одобрения от народа. Это единодушие воплощается в личности правителя, в котором каждый видит себя, на которого каждый возлагает свои надежды, поэтому ему все позволено и все по силам.
Вот это самое единодушие в народе принято за аксиому некоторыми учеными, изучавшими проблему применения пропаганды в демократическом обществе. По всей видимости этого требует переходный период от старой формы демократии к новой: «массовой и прогрессивной демократии». Иначе ее называют «демократия приверженцев», подразумевая систему, где все разделяют одни и те же убеждения. Эти убеждения не должны быть центробежными, т. е. не должны выражаться разными способами, что предполагает возможность крайнего расхождения взглядов. Напротив, убеждения должны подчиняться центростремительной силе, т. е. они должны двигаться в одном направлении и сближаться до тех пор, пока не станут однозначно похожими, без нюансов и противоречий, и даже более того: совпадут в ритуалах и станут общим гимном демократии (в полном соответствии с социальным мифом, о котором мы говорили раньше). Можно назвать это демократией соучастия, т. е. гражданин должен всей душой и всем телом разделять идеалы демократии: вся его жизнь, все поступки и мысли должны совпадать с вышеназванной системой, ему следует целиком примкнуть к вышеназванному обществу. Один из сторонников этой идеи приводит в качестве примера … Нюрнбергский процесс! Странный пример демократии в действии[310].
Как бы там ни было, но именно такое устройство общества, при котором оно едино и однородно, наилучшим образом подходит для распространения пропаганды внутри и для распространения ее во внешней среде. Но мы вправе спросить себя, а можно ли назвать такое общество поистине демократическим… Разве может считаться демократическим общество, где нет места ни оппозиции, ни меньшинству? Если уж демократия подразумевает, по крайней мере, противоборство партий, значит, без оппозиции никак не обойтись; но как только речь заходит о массовой демократии, где путем грандиозных и сложных мероприятий народ по приглашению власти принимает участие в управлении государством, тут же возникает смешение государства с правительством и вследствие этого можно предположить, что тот, кто воздерживается или не допущен к этому процессу, представляет собой не просто оппозицию, но он уже просто несовместим с национальным сообществом, которое в едином порыве осуществляет этот процесс. Так завершается масштабная трансформация демократической структуры, в которой уже не присутствует меньшинство, способное составить оппозицию власти, так как оно не располагает средствами пропаганды (или располагает какими-то средствами, но их недостаточно, чтобы конкурировать с теми, что находятся в распоряжении власти) и поэтому не может быть услышано.
Голос меньшинства становится все менее значимым, пока не приобретает еле слышный отголосок мифа, созданного пропагандой, и этот миф – антидемократический. Тот, кто отважится принять участие в такой форме социо-политической активности, объявляется сектантом, согласно той самой пропаганде, назначенной по велению власти носителем истины. Стоит тысячу раз повторить этот миф, передать по разным каналам, преподнести под разным соусом, как он превращается в само собой разумеющийся и не подлежащей обсуждению факт. Человек, принадлежащий демократическому обществу, как и любой другой в этом мире, подвержен тому, что у нас принято туманно называть «психозом», т. е. как раз то, что предполагает (или умышленно насаждает) пропаганда, если она хочет быть эффективной.
Если народ не верит в мифы, они не годятся для того, чтобы стать орудием тоталитарной пропаганды. Но если народ в них верит, то он тут же становится ее легкой добычей; даже если миф демократический, ему все равно присущи те же черты, что и любому другому, и в первую очередь то, что в глазах поверивших в него, его нельзя подвергать сомнению. К чему это приводит: любое возражение, даже если оно доказуемо, объявляется ложью, ошибкой, извращенным мнением.
Как только демократия превращается в объект пропаганды, она становится тоталитарной, авторитарной и считающей себя единственно правильной, как любая диктатура.
Энтузиазм и ликование народа, поверившего в миф, неизбежные проявления сектантства и непримиримого отношения к другим идеологиям. Миф о Демократии ярче всего выразился в Конвенции, где мы замечаем все формы демократии масс, выражающиеся в любви к торжественным церемониям и в желании слиться в едином порыве, свидетельствующими о единодушии народа. Но можно ли назвать все это проявлениями демократии? Разве не наблюдается подобная патология в республиканских настроениях в США, где навешивают ярлык «Un-American» (НЕ-американское) на все, что по американским понятиям является неприличным, чуждым, разве, строго говоря, это не конформизм? Это понятие «Un-American», для нас не слишком понятное, зато там, у них, обретающий четкий смысл по мере того, как отражает общие настроения и коррелирует с мифом. Попытки создать в обществе новое верование, подтолкнуть народ к экзальтированным проявлениям единодушия, то есть как раз то самое, чем занимается пропаганда, означает на самом деле привить ему такие чувство и сформировать такие рефлексы, которые ни в коем случае не сочетаются с жизнью в демократическом обществе.
Так как в конечном итоге проблема лежит именно здесь: демократия – это не только особая форма политической организации и не только идеология, это – прежде всего определенный способ восприятия жизни и особое поведение. Так как если воспринимать демократию только как организационную структуру общества, то проблема отсутствует: пропаганда легко может к ней приспособиться. Аргумент очень прост: если пропаганда не связана с государством, не управляется из единого центра, значит она вполне себе демократична. Если она всего лишь идеология, то тем более нет проблем: пропаганда может распространять какую угодно идеологию (обладая инструментами, о которых мы уже говорили), например, республиканскую доктрину, как и любую другую. Но если демократия – это способ существования, подразумевающий толерантность, уважение к чужому мнению, умение осознанно делать выбор, здраво рассуждать и т. д. и т. п., тогда пропаганда, влияющая на интеллект, поведение и чувства человека, изменяя в корне его характер, делающая из него существо, которое не приспособлено к жизни в демократии, и сама не может считаться демократической.