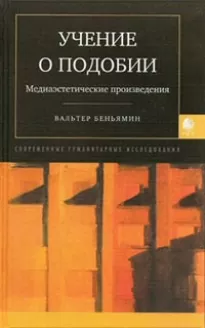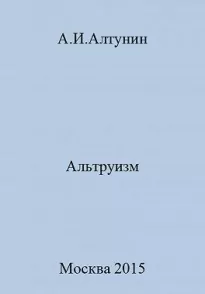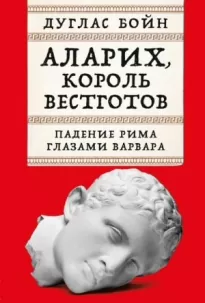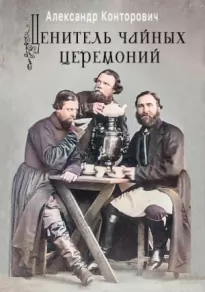Религия древнего Рима
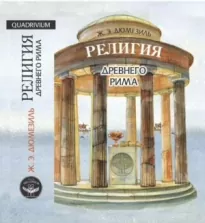
- Автор: Жорж Дюмезиль
- Жанр: Религиоведение / История: прочее
- Дата выхода: 2018
Читать книгу "Религия древнего Рима"
X. РИМСКИЕ ЭРУДИТЫ
Интерпретация надписи, найденной на Форуме, вместе с изложенными выше размышлениями обязывают также не держать под постоянным подозрением историков древности (antiquaries), живших в эпоху конца Республики и начала Империи: т. е., прежде всего, — из-за отсутствия Катона и многих других, труды которых утрачены, — Варрона и Веррия Флакка (Verrius Flaccus). Ведь бóльшая часть информации, на которую опирается Овидий в Фастах, исходит от Варрона. И именно к труду Веррия Флакка отсылает нас краткое его изложение, которое осуществил Фест (Festus), а в отношении утраченных частей труда Феста — к резюме, которое сделал Павел Диакон на основе его краткого изложения. Не говоря уже о Дионисии Галикарнасском и о Плутархе, о Сервии (многословном комментаторе Вергилия), Авл Геллий, Макробий, Отцы церкви — все они зависят от этих историков древности, а также, как правило, и все эрудиты Рима эпохи Империи, и позднее эрудиты Византии. Сегодня модно недооценивать этих великих тружеников. Говорят, что якобы систематический «сабинизм» Варрона, его плохие этимологии, его греческая образованность и его философские интерпретации настолько портят его творчество, что делают его почти бесполезным. Это несправедливо. Все его недочеты имели весьма ограниченные последствия. Излишний «сабинизм» заметен лишь в нескольких отрывках его работы О латинском языке. Если же многие из предложенных им этимологий не могут быть приняты, то у него есть и немало правильных этимологий. Более того, всегда легко заметить и отклонить то, что опирается только на неверное толкование имен собственных или нарицательных существительных. Что касается его хорошего знания греческих учений и его стоицизма, то это влияние умеряется и неким образом контролируется границами, которые он определил для своего исследования.
Квинт Муций Сцевола[135] — человек здравомыслящий, великий понтифик, который до своих страданий во время гражданских войн упорядочил религиозные представления, весьма смутные и дезорганизованные в то время. Из того, что дошло до нас из произведений Энния[136], мы видим, в какой восторг, а затем смятение повергло образованных римлян, настроенных патриотически и благочестиво, знакомство с греческой литературой — мифологией, философией, критикой. Сколько противоречий! В то время как Юпитер продолжал великолепно доказывать свое могущество и свою верность в прекрасных стихах первой национальной эпопеи, бесчисленные небылицы, нередко неприличные, касавшиеся его греческого двойника, проникали в Рим вместе с литературой, и плебс насмехался над делами, которыми он тщательно и долго занимался у полководца Амфитриона. В то же время, в своей эпопее Энний представляет Юпитера по Эвгемеру — как человека-бога, древнего обожествленного царя, а ученые-физики утверждали, что и он, и его похождения были образным выражением воздуха и атмосферных явлений. Эти взгляды на великого бога были несовместимы, однако каждая точка зрения имела что-то, говорящее в ее пользу: постоянный рост Рима сам по себе демонстрировал существование Капитолийца. Шарм и обилие мифов, связанных с ним, привлекали людей, обладающих хорошим вкусом, к царю Олимпа. Престиж науки, искусство диалектики вызывали у разумных людей колебания между скептицизмом и символическими интерпретациями. Как согласовать всё это? Обладавший от природы даром примирять, эмпирик, как и всякий добрый римлянин, а также знаток всего греческого, Муций Сцевола сумел оригинально использовать мысли стоиков о различных источниках познания богов. Он выделил таким образом классификацию, которая наилучшим образом подходила к его предмету. Он отделил то, что смешивалось вследствие слишком быстрого и бесконтрольного соединения, и в одной из ячеек этого разграничения спас оригинальность и достоинство собственно римской традиции. Как говорит св. Августин, он разграничил богов, введенных поэтами, богов, введенных философами, и богов, введенных политическими вождями (Ciu. D. 4, 27). Варрон усовершенствовал это удачное разграничение, которое отвечало потребностям времени. Так как одни и те же имена богов могли, впрочем, фигурировать во всех трех рубриках, он создал теологию мифов, которая подходила, например, театру, теологию природы, которая подходила мирозданию, и гражданскую теологию, которая подходила городу-государству. Определения, которые он дал, превосходны (Ibid., 6, 5).
1. В первом виде теологии встречается много вымышленных историй, оскорбляющих достоинство бессмертных богов и противоречащих их природе. Например, рождение божества, когда оно выходит из головы, из бедра или из капли крови, либо истории о богах-ворах, богах, участвующих в адюльтере, или о богах-рабах человека. В общем, богам приписываются всевозможные распутства, которые совершает человек, и даже самый презренный человек.
2. Второй вид теологии, который я выделил, послужил материалом для множества книг, в которых философы обсуждают определения богов, место их пребывания, их сущность и качества. Спорят о том, начали ли они существовать в какой-то определенный момент или они вечны? Происходят ли они от огня, как считает Гераклит, или от чисел, как полагает Пифагор, или они состоят из атомов, как утверждает Эпикур. Поднимаются и другие подобные вопросы, обсуждению которых больше подобает звучать в стенах школы, чем на Форуме.
3. Третий вид теологии — это тот, который граждане государств, и в первую очередь священнослужители, должны знать и которым они должны пользоваться в жизни. Т. е. этот вид теологии предполагает знание того, каким богам надо поклоняться публично, а также какие ритуалы каждый человек должен соблюдать и какие жертвоприношения он обязан делать.
Трудно поверить, что человек, сформулировавший эти разграничения и так четко противопоставивший третий вид теологии двум первым, был неспособен выделить в сказанном им о Юпитере то, что исходит от Гомера или от Стои, или от Академии, и отличить это от того, что идет от традиции верховного жреца (tradition pontificale). Резкая критика св. Августина, которая будет изложена в следующих главах, изобличаемые им случаи смешения первого и третьего видов теологии или второго и третьего видов теологии — в большей степени являются проявлением враждебности, чем добросовестности. Приведем пример (6, 7):
«…А сам Юпитер? Что думали о нем те, кто поместил его кормилицу на Капитолии? Разве они не подтвердили таким образом мнение Эвгемера, который, — как скрупулезный историк, а не как болтливый знаток мифологии, — утверждает, что первоначально все боги были людьми? И точно так же те, кто посадил богов Эпулонов, паразитов Юпитера, за его стол, разве они не превратили богослужение в шутовство? Если бы это шут посмел сказать, что за столом Юпитера сидели паразиты, то можно было бы подумать, что он хотел повеселить публику, но это говорит Варрон. А Варрон не хочет высмеивать богов, которых он почитает.».
Когда возмущение спало, что остается от этих высказываний? Мы понимаем, что, говоря о храме на Капитолии, Варрон указывал, что — среди других освященных предметов искусства — там присутствовало изображение козы Амалфеи, а также, что он говорил (а как бы хотелось получить сведения, которые содержались в отрывке, ставшем предметом осуждения!) о трапезах в честь Юпитера (epula Jouis), о «божьих трапезах» (lectisternes), которые там совершались. Когда далее св. Августин упрекает Варрона в том, что он, излагая гражданскую теологию, касающуюся праздника Ларенталий, воспроизводит сказку, резюмированную нами выше, и говорит, что, по его мнению, самое большее, чего она достойна, — это войти в теологию, занимающуюся мифами, в частности в пересказ мифа о прекрасной ночи, которую Геркулес провел с куртизанкой Ларентией, — мы благодарны Варрону за то, что он отделил греческие выдумки — материал теологии, занимающейся мифами — от римских выдумок, относящихся к любым временам, выделив римские комментарии — старинные или нет, — объясняющие национальные праздники, а также за то, что он включил их в свою гражданскую теологию: разве не у него почерпнули эти сведения другие авторы, которых мы читаем, такие как Овидий и Плутарх?
Само собой разумеется, что свидетельства Варрона необходимо взвесить, как все другие, и, как правило, это легко — благодаря самим основным чертам его системы. Однако следует также уметь согласиться с его точкой зрения, если нет причин для сомнений. Вспомним замечательное определение, которое он дает (Aug. Ciu. D. 7, 9) концептуальной противоположности между Янусом и Юпитером. Он не мог заимствовать это определение у греческих философов, так как римляне отказались от того, чтобы искать в Греции соответствие своему оригиналу Януса. С другой стороны, Варрон дал это определение для того, чтобы объяснить определенный момент ритуала, а именно то, что Юпитер упоминается вторым, после Януса. Почему?
«Дело в том, что Янус управляет тем, что является первым (prima), а Юпитер — тем, что является самым возвышенным (summa). Следовательно, справедливо считать Юпитера всеобщим царем, ибо хотя исполнение стоит на втором месте по времени, однако оно занимает первое место по значимости»[137].
Предубеждение, присущее примитивистам, мешает многим современным авторам допустить, что в Риме ранней эпохи был бог нαчάл, которого определяет только его место среди всех prima. И тогда Янус либо становится непонятным, либо его навязывают, объясняя с помощью всяческих ухищрений. Зачем отказываться признать древним этот краткий и существенный кусок жреческого катехизиса, который проясняет всё?
Если оставить в стороне знатоков старины, то всё, что было установлено в отношении надписи на Lapis Niger, долгое сохранение ритуала, который в ней упоминается, — не позволяет более оставлять без внимания технические компиляции, которые под названием трактатов de auspiciis, de religionibus и т. п., подготовили почву для трактатов de iure pontificio двух современников Августина — Antistius Labeo и Ateius Capito. Эти трактаты утрачены, но их очень часто цитировали, вплоть до эрудированного, но неумного византийца Иоанна Лида, и они ввели в обращение точные знания, которые — если бы не они — исчезли бы вместе со жречеством.