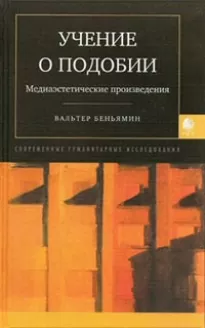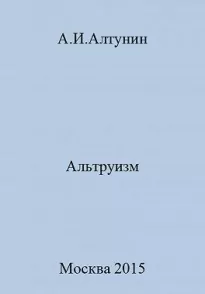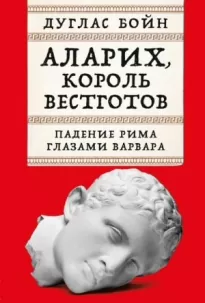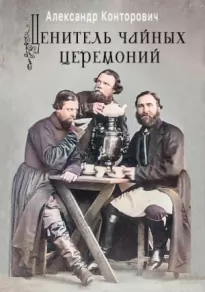Религия древнего Рима
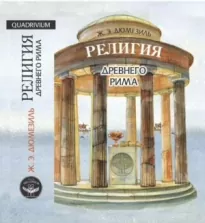
- Автор: Жорж Дюмезиль
- Жанр: Религиоведение / История: прочее
- Дата выхода: 2018
Читать книгу "Религия древнего Рима"
Многие народы представляют себе богов человекообразных, и даже знают, что тот или иной бог имеет те или иные особенности, какое-нибудь физическое увечье, рыжую бороду, три глаза, огромную руку, но, тем не менее, не проявляют эти знания в изображениях из дерева, глины или камня. Однако, поскольку при жертвоприношениях, в священных местах, может быть полезным ясное указание на присутствие этого невидимого существа, причем такое, чтобы невозможно было его спутать ни с каким другим, используют какой-нибудь предмет, который характеризует его в достаточной мере, символизирует его: в Риме это будет огонь в очаге для Весты, кремень — камень, связанный с молнией и громом, — для Юпитера-громовержца, копье — для воителя Марса. Так, терзаемая со всех сторон фраза из Жизни Ромула вырвалась у обладателей mana: «Древние называли Марса копьем, помещенным на Регии…». Разве эти слова не являются всего лишь намеком на обряд, во время которого главнокомандующий — тот, который в войне прилагал усилие, — шевелил копье, говоря при этом «Марс, бодрствуй!», обращаясь не к символу, а к богу через его символ? Уверенный, что его поймут, Плутарх, не предвидевший вмешательства Герберта Роуза, сочинял наспех, не заботясь о нюансах и стиле. Он даже повторил три раза подряд на нескольких строках глагол «приветствовать/обращаться» (προσαγορεύειν): употребление этого глагола во второй раз, из которого был сделан вывод о предеизме, скорее всего, является всего лишь небрежностью, приблизительным выражением. В многочисленных заметках этого автора, посвященных римской религии и написанных с чувством глубокого почтения к богам, нет ничего другого, что могло бы навести на мысль о предеизме. Ничто в его изложении не растворяет бога в идоле, не подразумевает создания понятия о боге с помощью одушевления предмета. Есть ли здесь исключение? Что касается меня, то я думаю, что Плутарх был бы неприятно удивлен, если бы мог увидеть, что делают с его беглым указанием.
Копье Марса и, параллельный случай, подлежащий опровержению по аналогичным причинам, — кремень Юпитера (Juppiter Lapis) — используются примитивистами как главные аргументы. Всё, что они смогли придумать, кроме этого, — либо неправильно истолковано, либо это такие утверждения, с которыми легко можно согласиться, а именно утверждение о том, что в Риме были некоторые религиозные действия, весьма похожие на магию.
Что касается римского истолкования (interpretatio romana) меланезийского mana как numen, то в наше время оно кажется таким неадекватным после столь жесткой критики, которой оно подверглось, что сам его автор в поздней статье заявил, что оно не имеет значения, что важны лишь факты, а не наименование[55]. Правда, он скоро забыл, что отказался от этого своего высказывания, и до самой смерти употреблял слово numen в том значении, которое сам ему навязал. Другие поступают так же. Если в книгах, прекрасных во всем остальном, это слово встречается как будто всё реже, тем не менее (что является нелепой ошибкой) их авторы то и дело продолжают говорить о numen в эпоху Республики как о «качестве», присущем какому-нибудь богу или даже вещи. Следовательно, имеет смысл резюмировать здесь ясные и давно установленные материалы, поскольку главное уже содержится в прекрасной статье Бирта[56], а также потому, что Ф. Пфистер, — в своей монографии, посвященной «Энциклопедии классической античности» А. Паули — Г. Виссовы (XVII, 1937, col. 1273–1291) — прежде чем, наконец, присоединиться, против всех ожиданий, к тем, кто придерживается термина mana, прекрасно изложил историю numen.
Главное заключается в том, что до самой эпохи Августа, вплоть до Цицерона включительно, слово numen никогда не употреблялось одно, оно всегда сопровождалось генетивом имени какого-нибудь божества, либо, в виде исключения, — по аналогии с именем какой-нибудь авторитетной индивидуальности или сообщества — mentis, senatus, populi Romani («ума, Сената, римского народа»)[57]. В этих выражениях данное слово не обозначает неотъемлемого качества какого-либо бога, а является выражением особой воли этого бога. В этом оно соответствует своей этимологии: numen — производное от индоевропейского корня *neu, но оно образовано в самом латинском языке, а не унаследовано от индоевропейского (греческого слово νεύμα, по-видимому, представляет собой параллельное, но независимое наименование, — впрочем, синонимичное). Однако в латинском языке — какими бы ни были значения этого слова в других языках — этот корень (adnuere, abnuere) означает исключительно «сделать выразительный жест головой», а в широком смысле — знак одобрения или отказа. Как прекрасно объясняет Варрон — numen dictum a nutu[58] (L. L. 7, 85), а красноречивая мольба, которую Тит Ливий приписывает кампанским послам перед Сенатом Рима, — больше, чем игра звуков: adnuite nutum numenque uestrum Campanis et iubete sperare incolumem Capuam futuram («кивните же нам головой, изъявите кампанцам свою непреложную волю и дайте нам надеяться, что Капуя останется цела и невредима»). Попытка, которую предпринимает Вагенвоорт с целью придания слову numen его обобщенного значения — «движение», — исходя из значения, впрочем, неточного, которое он приписывает корню nav- в ведическом языке, следовательно, изначально была обречена на неудачу. Не может помочь и ссылка на Лукреция, 3, 144 (cetera pars animae… ad numen mentis nomenque mouetur). Здесь numen и nomen не дублируют друг друга, поскольку одно из этих слов обозначает «решение, принятое суверенным mens», а второе — «движение, в которое mens вступила». Можно дать следующий перевод: «остальная часть души подчиняется решениям разума и следует за его движениями». Только у писателей августовских времен — с помощью значения «божественная власть» (через посредство значения «власть бога», которое как бы является интегралом особой воли бога) — слово numen стало, с одной стороны, поэтическим символом «бога», а с другой стороны, как бы фиксацией каждой из разнообразных провинций, образующих сложное владение бога, и, наконец, (в-третьих) — выражением того, что является самым таинственным в невидимом. Для того чтобы составить мнение о религии эпохи царства и времен республики, эти подробности значения не важны. Кроме того, следует отметить, что Вергилий часто использует первоначальное значение. Например, в стихах начала Энеиды (1, 8—11), которые послужили отправной точкой для исследований Бирта.
Musa mihi causas memora, quo numine laeso
quidue dolens regina deum tot uoluere casus
insignem pietate uirum tot adire labors
impulerit. Tantaene animis caelestibus irae?[59]
Здесь numine laeso может означать лишь следующее: «какое решение, явленное ноной, было нарушено» (ср. numen uiolare у Лукреция (Lucr. 2, 614); «греха желала»[60] у Овидия в Метаморфозах (9, 627)). Точно так же, в кн. 7 (383–384), когда латиняне решают начать войну против троянцев, поэт уточняет, что они делают это contra omnia, contra fata deum, peruerso numine: т. е. вопреки посланным им знакам, вопреки заявлениям богов и — поступая противоположно тому решению, которое выразили боги.
Резюмируя, можно сказать, что numen не может выполнять ту роль, которую дает ему Роуз. Древние употребления данного слова, а также его этимология, напротив, свидетельствуют о первичности понятия индивидуализированного бога: в течение веков numen был только numen dei — волей, выраженной тем или иным богом.
Здесь следует подчеркнуть один простой факт: школы примитивистов и, в частности, предеистика (prédéistique), достигают таких успехов, что почти заставляют забыть о том, что в латинском языке есть слово deus, а это весьма важно. Мы снова сталкиваемся с фактом, встречающимся в индоевропейских языках: данное слово обнаруживается в большинстве из них. Среди индоиранских языков ведический имеет слово devà — «бог». И если на языке Авесты, вследствие глубокого преобразования daēva стало названием демонов, враждебных богам (впрочем, демонов индивидуализированных), то недавно было найдено доказательство того, что у скифов слово *daiva осталось наименованием богов. Галлы говорили devo-, ирландцы — dia, в бриттском языке — de. В древнескандинавском — множественное число tivar было одним из родовых названий богов, причем имелось (особенно в сложных словах) единственное число — týr. В древнепрусском имелось слово deiwas, а в литовском — diēwas. В Италии известно оскское слово deívaí. С недавних пор (в одной из надписей музея в Виченце, которую изучил господин Michel Lejeune) присутствует слово из языка венетов zeivos. Весьма важно, что везде, где было возможно установить смысл, *deiṷo — обозначает индивидуализированное существо, вполне сформировавшуюся личность — а это то же, что оно обозначает в латинском языке (deus, форма множественного числа dīuī, сократившаяся до diī, dī; на основе этого была восстановлена форма dīuus. Форма аккузатива множественного числа deiuos присутствует в надписи, называемой «Duenos inscription»[61]). Это сохранившееся слово вполне может разрушить конструкцию предеистов, поскольку оно доказывает, что не только у самых древних римлян, но и у их индоевропейских предков уже имелся тот тип божества, который на наших глазах пытаются вывести из понятия, эквивалентного mana, из numen, отклоняемого от его значения. В противном случае придется предположить, что — имея вначале слово с индоевропейским значением «индивидуализированного личностного бога» — древнейшие римляне его втайне сохраняли, не пользуясь им в период отхода к слову mana, а затем восстановили в его древнем значении, когда их новые размышления о mana-numen вернули им представление об индивидуализированных богах. Достаточно лишь упомянуть о таком пути развития, чтобы сразу понять, что это абсурдно. Лучше признать факт, не издеваясь над ним, и согласиться с тем, что индоевропейцы, ставшие римлянами, всегда, без перерывов и кризисов, хранили это понятие, которое уже вполне сформировалось за время их миграции, и что оно везде, с самого зарождения истории, обозначалось фонетическими вариантами *deiṷos.