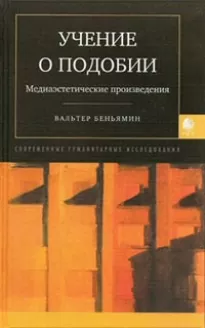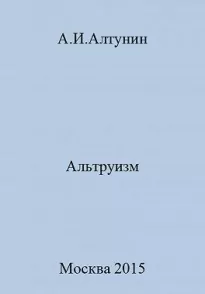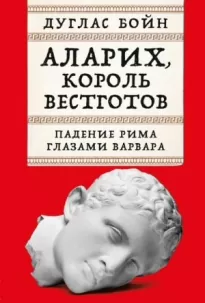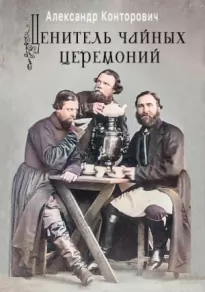Религия древнего Рима
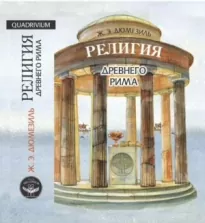
- Автор: Жорж Дюмезиль
- Жанр: Религиоведение / История: прочее
- Дата выхода: 2018
Читать книгу "Религия древнего Рима"
Эти соображения следует распространить на всю религию в целом, выйдя далеко за пределы теологии знаков. По всей вероятности выдуманная, но лестная история проясняет это состояние духа в другой сфере — ius fetiale — посольского, международного права. Так, после позорной капитуляции при битве в Клавдинском ущелье, один из побежденных консулов, Спурий Постумий Альбин, вернувшись в Рим, сам посоветовал Сенату торжественно послать его обратно к самнитам вместе с другими виновниками капитуляции за то, что они высказывались от имени римского народа, не имея на это права. Тогда фециалы снова привели их в лагерь самнитов. И в то время как неприкосновенный священнослужитель их им передавал, «Постумий сильно ударил фециала коленом в бедро, сказав громко, что сам он по национальности самнит, а фециал — посол; что он нарушил ius gentium[156] в отношении фециала; что, следовательно, и римляне будут отныне вести более законную войну, iustius bellum» (Liv., 9, 10, 10). Вождь самнитов стал возражать, воззвав к богам, но боги, по-видимому, сочли удар справедливым, поскольку вскоре самниты, в итоге, попали под власть Рима. Мы, в наше время, склонны сказать по этому поводу: кого обманывают? Кого надеются обмануть? Но так говорить нельзя, это неверно. Дело в том, что римлянин не обманывает богов. Он обращается с ними — как с юристами, которые в той же мере, что и он, убеждены в совершенстве формальной стороны дела; он приписывает им пристрастие к искусному использованию технических приемов: вспомним в связи с этим, как Юпитер «патентует» хитроумие Нумы, говоря: «о смертный, достойный беседы со мной». Такая непринужденность в общении с вышестоящими коллегами, такое «сообщничество» отнюдь не исключают веры, а, напротив, предполагают ее. Даже о временах увлечения всем греческим, когда философы и критики религии насторожили римлян, не следует высказываться безапелляционно, не учитывая оттенков, и говорить о свободомыслии, об атеизме. Конечно, религия в тот период обесценивается, приходит в упадок, «портится», как вообще все, но она продолжает существовать в умах даже самых смелых вольнодумцев в виде осознанного признания того, что чудесная судьба города оправдывает хотя бы обычаи, а, следовательно, обосновывает и существование богов в той мере, в какой эти обычаи требуют присутствия богов. Даже сегодня между верой угольщика и прагматизмом имеется множество промежуточных позиций, плохо совместимых с логикой, но вполне способных ужиться с чувствами верующих. И мы наблюдаем, как верующие великих религий, в процессе жизненных испытаний переживая долгие периоды безразличия или отрицания, переходят от одной точки опоры к другой. В Риме ситуация, по-видимому, была не проще. Хотя Энний был популяризатором Эвгемера, он, вероятно, отнюдь не был атеистом; и жертвоприношения, которые приносил бессмертным богам Юлий Цезарь, также не были во всех случаях политическим спектаклем.
В других сферах, уже не в знаках, римская религия характеризуется такой же уравновешенностью, таким же смягчением одной склонности с помощью другой — противоположной. Во-первых, в сфере культа. Слишком часто повторяли, что в Риме культ — это коммерция. Это так, но за исключением мистических форм культа. Разве это не присуще всем религиям? Так, do ut des почти слово в слово читается в литургических книгах индийцев и вполне различимо в большинстве ведических гимнов, где, если отбросить приемы риторики и красóты поэзии, останется только элементарное рассуждение: «Я тебя восхваляю, а ты мне помоги», или: «Я несу тебе жертвоприношения, а ты одари меня (в ответ на это)». Несомненно, точно такое же рассуждение обосновывает надлежащее протекание sacra (священных обрядов), а также служит опорой для vota (жертвоприношений), с дополнительным оттенком условия и оплаты в некий срок: «Если ты мне дашь, я принесу тебе дары», причем тщательно уточняется, что именно будет включено в эти приношения. С другой стороны, procuratio prodigiorum[157]имеет еще один аспект: шантаж со стороны богов. Боги угрожают, но, как правило, остается непонятным — почему. Ищут сведений в Книгах, чтобы узнать, чего требуют боги, и человек платит. Но религия к этому не сводится, она не ограничивается тем, что происходит на алтаре. Существует общее и постоянное уважительное отношение, проявляется почтение. Имена богов произносятся серьезно. В самые древние времена существовала характеристика pater, mater, касавшаяся главных богов. Удачным побочным результатом развенчания мифов — вплоть до того момента, когда влияние Греции усложнило и испортило дело, — была чистота, было достоинство почти абстрактного представления о них (о pater и mater). Наконец, было еще понимание их величия (maiestas) и их главенствующей позиции в иерархии существ, в результате чего наилучшим видом соглашения с ними является позиция верного клиента, бесконечно и безоглядно преданного своему могущественному патрону (Horr. Carm. 3, 6, 5–6):
Dis te minorem quod geris, imperas,
hinc omne principium, huc refer exitum…[158]
В самóм культе такой способ отношения не является единственным. В недавно опубликованной прекрасной работе[159]весьма уместно обращается внимание на отношение Венеры и uenerari[160]. Когда мы встретимся с этой богиней, это взаимоотношение будет заметно, но вполне понятно, что тому, кто почитает, бог дает не предложение и не правила, сформулированные четко и ясно, а нечто другое. Здесь реализуется основанное на взаимности понятие — милость богов, к которым он обращается с просьбой. При этом их мир превосходит по степени благодеяния все, что может быть уточнено в договоре. Было бы анахронизмом впутывать в это дело сердце и его резоны, однако, здесь все отнюдь не сводится к меновой сделке.
Наиболее значительное из этих колебаний между двумя противоположностями управляет самим развитием религии. Мы неоднократно упоминали о том, что римлянин скрупулезно консервативен. В условиях, когда священная наука приходит в упадок, он будет упорно сохранять, — даже перестав их понимать, — традиционные церемонии. Более того, он строго различает то, что — родное, и то, что — чужое, или то, что раньше называли вражеским. При этом он спокойно и твердо убежден в величии (majestas) всего, что связано с Римом, его обычаями и представлениями. Но, с другой стороны (и об этом мы также упоминали), римлянин — эмпирик, и он готов признать и оценить то, чего он раньше не знал, если это окажется мощным или полезным. Поэтому даже в самый ранний период, религия, в высшей степени придерживавшаяся традиций, тем не менее, не замкнута сама в себе, терпима к чему-то новому и готова его принять. В этом римская религия, по-видимому, противоположна ведической, для которой боги и культы варваров являются чем-то демоническим, как и сами варвары. В зависимости от условий, которые мы рассмотрим позднее и которые были весьма различными в связи с различиями партнеров и обстоятельств, римская религия почти всегда была способна воспринять способы изучения невидимого, приходившие от друзей или от врагов, в мирное время или во время войны, от близких соседей или издалека, и принять новых богов или способы осуществления культа. Представляется, что довольно рано она создала орган, способный исполнять функции, которые становились постоянными: она ввела специальных жрецов — децемвиров, которые имели надзор за Сивиллиными книгами (decemuiri sacris faciundis), как говорят, в качестве развития дуумвирата. Эти священнослужители стали фактором развития и обновления религии, став почти столь же значимыми, как и понтифики. Споры между плебсом и патрициатом также способствовали этой открытости, хотя и не следует считать, что плебс сыграл здесь главную роль.
Но есть и другое колебание, и другое равновесие: до самого конца эпохи Республики, даже в разгар смут, случавшихся в последние ее века, нововведения, которые допускались в частной жизни, а иногда принимались и даже были желательными в общественной сфере, всегда строго контролировались. Для того чтобы его приняли и признали, бог или культ должны были быть не только хорошо известными, популярными, и не только совместимыми со сводом национальных религиозных обрядов, но они должны были также быть полезными по мнению тех, кто руководил религиозной и политической жизнью. Увлечение — как мы видели в деле вакханалий — скорее, оценивалось отрицательно и могло послужить поводом для резкого отвержения. Геркулес и Аполлон, Диана Арицийская и Юнона Вейская, Венера Эрикская и Мать Пессинунтская — все принесли Риму совершенно очевидное усиление, которое пришлось очень кстати в последнем случае, так что по поводу децемвиров, прочитавших в Сивиллиных книгах приказание их принять, неизбежно возникает сомнение в искренности. Правда, здесь такие сомнения, видимо, неуместны. Эти книги были тарабарщиной, в которой можно было прочесть многое, как в Нострадамусе. Главное — надо было знать, что там вычитать, в зависимости от обстоятельств, побудивших в них заглянуть, и от реальной действительности в своей стране и в мире, от ее потребностей и от конкретных поводов. Здесь не было мошенничества: поскольку темное и непонятное может быть в любом случае преодолено только ясностью, то децемвирам надо было — чтобы быть в состоянии понять пророчества — знать многое. А если они оказались столь полезными, то здесь дело в том, что они действительно лучше других знали, что происходило в мире в сфере религии, знали, ценность чего повышалась. Кроме того, будучи тесно связанными с Сенатом и с верховными магистратами, они знали обоснованные потребности римской политики и могли, проявляя определенную степень мудрости, догадаться о том, что' высшая мудрость богов не могла не подсказать им, и что она, следовательно, им рекомендовала — через описанные в книгах тайны, которые оставалось только прочесть. Такими были, как мне кажется, достойные средства многих разумных советов. От них не осталось следов, хотя по крайней мере один след пытались усматривать в событиях 207 г. — след от конфликта, соперничества между понтификами и децемвирами, между хранителями испытанных обрядов и «уполномоченными» по новшествам. Так как авгуры сами ограничивали риск, связанный с их искусством, то децемвиры следили за их вдохновением.
Только одна точка зрения не позволяет соблюсти столь же гармоничное равновесие — и, по-видимому, в этом заключается одна из причин столь легкой победы греческих и восточных культов в последние века Республики: соотношение между степенями участия общества и личной инициативой в развитии религии, и даже в управлении ею, явно склоняется в пользу общества. Если даже можно думать, что удачная мысль призвать в Рим Госпожу из Пессинунта пришла в голову одному из децемвиров, все равно ее так хорошо приняли все другие децемвиры и аристократия, что она с самого начала фактически была всеобщей. Осуществление uota (жертвоприношений) полководцев на полях сражений создало под другими именами культы уже существовавших ранее богов, а также культ олицетворенных абстракций по образцу уже известных культов, вереницу которых он возглавил; возникли действительно личные культы, и они были признаны сообществом. Во всяком случае, был некий тип существ, которых Рим не знал или очень рано устранил: это человек, находящийся во власти вдохновения, уста которого — без технической проверки и без контроля со стороны коллег — обильно изливают мысли бога. Галльскому vatides, ирландскому faith вполне соответствует латинское существительное vates (прорицатель), но это всего лишь сходство названий. Слово vates не является названием общепризнанной обязанности. Оно не отводит человеку какого-либо определенного места на службе обществу, в отличие от авгура или гаруспика. При этом слово vates обманчиво: прорицание происходит не в состоянии воодушевления. Это дело тех, кто хладнокровно интерпретирует знаки. Человек, который в наибольшей степени вовлечен в священное, — это, по-видимому, фламин Юпитера, который каждый день feriatus (празднующий) — на службе у своего бога: но нет и человека менее свободного по отношению к этому священному, по отношению к этому богу. Все его поведение определяется незыблемыми правилами. Во времена Республики никто не был заранее предназначен к богослужению: главными священнослужителями становились либо путем кооптации[161], либо по выбору верховного понтифика, причем безапелляционно. Позднее это решалось голосованием части народа. Никто не рождается авгуром или весталкой. Никто не является избранником бога. Никакой сверхъестественный знак не указывает на это призвание. Всегда ли было так? По-видимому, нет. Коллегия авгуров ссылается на своего великого предшественника времен царей — Атта Навия, но в нем, однако, заметен тип человека, дисциплинированного традицией, а это отнюдь не свойственно его эпигонам (Cic. Diu. 1, 17). Когда в ранней юности он пас отцовских свиней, одна свинья пропала. Он был тогда очень беден — и дал богам обещание, что если найдет ее, то принесет им в дар самую большую гроздь винограда из семейного виноградника. Когда он нашел свинью, то стал в центре виноградника, разделил его на четыре части, обратился лицом к югу и начал наблюдать за птицами. В той части, на которую ему указали птицы, он нашел гроздь невероятных размеров. Таким образом, отмеченный самим небом как «одаренный», он прославился, обрел клиентов и стал царским авгуром.