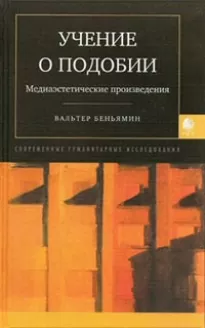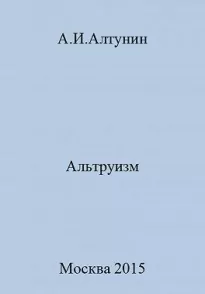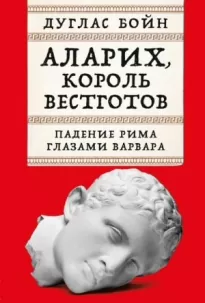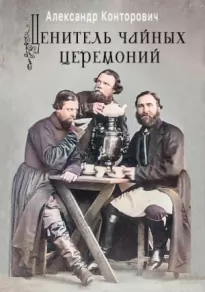Религия древнего Рима
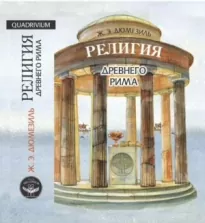
- Автор: Жорж Дюмезиль
- Жанр: Религиоведение / История: прочее
- Дата выхода: 2018
Читать книгу "Религия древнего Рима"
«…Катон в своих Комментариях к гражданскому праву так объясняет это слово: mundus обязан своим названием небесному своду — mundus, находящемуся над нами. Действительно, как я узнал от тех, кто туда входил, mundus имеет форму, подобную той, которую имеет другой mundus. Что касается его нижней части, которая как бы посвящена богам Манам, то наши предки решили, что она должна всегда оставаться закрытой, за исключением дней, указанных выше. Они считали эти дни благочестивыми по следующим причинам: в то время, когда тайны религии богов Манов как бы выносились на свет и открывались, они хотели, чтобы в эти моменты не совершались никакие официальные действия. Поэтому в эти дни они не начинали боев с врагами, не мобилизовали войска, не проводили народные собрания (comitia), т. е. не занимались никакой официальной деятельностью, кроме случаев крайней необходимости».
Некоторые ученые — Латте, мадам Луиза Банти — подчеркивали, что на практике в те века, о которых у нас есть сведения, эти предписания не выполнялись, в том числе в отношении народных собраний (в календарях три дня отмечены знаком C[omitialis]). Однако это не может служить основанием для того, чтобы оспаривать теорию: Фест, т. е. Веррий Флакк, говорит в прошедшем времени — в имперфекте, — указывая тем самым на то, что обычай не сохранился в чистом виде. С другой стороны, выражение, которым он характеризует положение вещей, требовавшее трижды в год открывать mundus, интересно не только тем, что он говорит, но и тем, о чем умалчивает: quo tempore ea quae occultae et abditae religionis deorum Manium essent, ueluti in lucem quamdam adducerentur et patefierent[429]. Здесь и речи нет о том, чтобы массовым образом извлекать умерших, что происходит в другое время — в февральские Фералии, во время «кризиса» конца зимы. Речь здесь идет только о том, чтобы неким образом открыто выставить напоказ темные тайны, которые мы, к сожалению, не в состоянии определить. Фраза Варрона, которую сохранил Макробий (I, 16, 18) говорит о том же: «mundus cum patet, deorum tristium et inferum quasi ianua patet»[430]. При этом не указывается ни то, что происходит, ни то, что появляется в этих очень узких дверях. Наконец, в другом объяснении Макробия (ibid. 17) уточняется, но по-гречески, что опасность заключается, скорее, в спуске, чем в подъеме: не следовало начинать войну, когда mundus был открыт, так как он был посвящен Диспатеру и Прозерпине, а также потому, что считалось благоприятнее отправляться сражаться, когда пасть Плутона закрыта.
Невозможно реконструировать то, что было непонятно уже самим нашим информаторам, и о чем они, в общем, очень мало сказали. Этимология здесь не помогает: слово mundus не поддается объяснению через индоевропейский язык.
Пенаты получили свое имя — di Penates — от особого места: penus, продуктовая кладовая. Однако поскольку римляне не слишком заботились о хорошем состоянии или обилии продуктов, а следили лишь за благополучием дома и его жителей, весьма возможно, что penus в этом производном слове следует понимать как что-то самое личное, самую интимную часть дома, находящуюся в его глубине. О таком значении свидетельствует родственное наречие, наверняка древнее, — penitus, а также присутствие этого корня в словах penetrare, penetralia[431].
Во всяком случае, именно из этого теоретического «центра» исходит их деятельность.
Очаг — это одно из тех мест в доме, где люди легче всего вступают в контакт с богами. Недостаточная четкость собирательных понятий Lares и Penates привела к тому, что эти группы конкурируют или их смешивают, путают. Так, Сервий (Комм. к Энеиде, II, 211) говорит: «жертвенник богов-пенатов — это очаг», а Вергилий, напоминая о penus (кладовая), даже метонимически употребляет их имя вместо focus (очаг): «благовонья курили пенатам» (Энеида, I, 703). Однако Катон (О земледелии, 14), Плавт (Три монеты, 139) и другие авторы приписывают тот же самый очаг лару или идентифицируют его с семейным Ларом. Правда, оба понятия действительно весьма близки: одно обозначает место, а другое — сооружение, находящееся в этом месте. Здесь не обходится без третьей конкурентки — Весты, хотя ее редко называют прямо. Может быть, дело в том, что она сначала принадлежала, скорее, к общественному культу. Пенаты же они наверняка выдвинулись из приватного культа в публичный, где в эпоху Республики не играли большой роли. Встреча Весны с di penates (богами-пенатами), тем не менее, создала связь. Цицерон с полным основанием скажет (О природе богов, 2, 68): «Почти ту же власть [Весты] имеют и боги-пенаты». И именно в храме Весты (где, однако, имелся penus) развилось понятие Penates populi Romani. Среди святилищ, сгоревших при Нероне во время великого пожара, Тацит указывает на «святилище Весты с Пенатами римского народа» (Анналы, 15, 41). То, что Пенаты находились в очаге, подтверждается одним обрядом. Перед каждой едой, когда семья собирается вокруг стола, на очаг ставится полная миска patella, либо часть еды бросают в огонь — для божеств, которыми могут быть только Пенаты. Присутствующие молчат до тех пор, пока раб не заявит, что «боги» удовлетворены (Сервий. Комм. к Энеиде, 2, 469). Позднее они получили часовню в атриуме, что не помешало, при распределении частей дома между богами, отвести Пенатам culina — кухню (Сервий. Комм. к Энеиде). Виссова справедливо отметил, что (в отличие от Lares) имя Penates требует, чтобы перед ним стояло существительное «боги», т. е. penates — прилагательное. Их личность совпадает с местом их локализации. Они — те, которые принадлежат penus, подобно тому, как Arpinates — это граждане Арпиев. Римляне в течение долгого времени довольствовались этим обозначением, но затем они стали считать пенатами всех богов, мужского и женского рода, которых чтили в доме, независимо от причины поклонения. Сервий говорит (Комм. к Энеиде, 2, 514): penates sunt omnes dei qui domi coluntur[432]. Так развилось понятие, о котором свидетельствуют знаменитые фрески Помпеи: каждый хозяин дома мог свободно выбирать для себя в пантеоне богов тех, кого хотел иметь в качестве богов пенатов (di penates), и это слово обозначало уже только функцию, которую можно было предложить самым различным кандидатам, в том числе самым знатным — таким, как Юпитер, Венус, Фортуна, — без каких-либо ограничений. Виссова заметил, что ритуальная клятва магистратов, которые должны были клясться Юпитером и богами Пенатами (а в эпоху Империи еще Гением правящего императора и его предшественников, которые уже стали богами), однажды в Лузитании встретилась в формулировке, преобразованной следующим образом: Juppiter O. M. ac diuus Augustus ceterique omnes di immortales[433] (CIL. II, 172). С другой стороны (и, быть может, это связано с незасвидетельствованной особенностью древней концепции), форма «чета, пара» нередко встречается в различных вариантах расширенных формулировок. На фресках Помпеи чаще всего боги распределены по группам, причем в таких разнообразных сочетаниях, что они «пенатизируются». Что касается Penates publici, когда впервые в III в. римское государство воздвигло в их честь отдельный памятник на склоне Велии, то они там были изображены как двое юношей наподобие Диоскуров. Дионисий Галикарнасский видел их своими глазами (I, 68, 1): «…В этом храме помещены изображения троянских богов, которых могут видеть все. При них есть надпись, указывающая, что это — Пенаты. Это двое сидящих юношей, держащих копья. Это — древнее произведение». На многих монетах I в. изображены головы Диоскуров с надписью D(i) P(enates) P(ublici). Из этого не следует делать вывод, что Penates publici — это Диоскуры. По-видимому, изображение было заимствовано у этих богов. Однако чтобы такое было возможно, должно было быть в них нечто, что ориентировало на греческих близнецов. Возможно, что это просто ассоциация с парой[434]. Однако Варрон (L. L. 5, 59) категорически возражал, не допуская мысли, что боги на Велии действительно могли быть Пенатами. Он использовал это имя только в тех случаях, когда речь шла о таинственных предметах, хранившихся в penus Vestae — столь таинственных и недоступных, что древние выдвигали на их счет различные предположения, которые здесь для нас не представляют интереса.
Дионисий Галикарнасский называет их «троянскими богами». Они действительно фигурировали в троянской легенде: Эней якобы принес их из Азии, обеспечив преемственность и даже идентичность двух городов. Промежуточные этапы, о которых известно из других преданий и с которыми должна была считаться новая легенда, — Ланувий, Альба[435], — разместились между Энеем и Ромулом. Таким образом, Рим почувствовал себя непосредственно затронутым Пенатами этих городов или, по крайней мере, Пенатами первого города — единственного выжившего. Рим считал их — наряду с местной Вестой — идентичными своим Пенатам (Варрон, L. L. 5, 144; Плутарх, Cor. 29, 2); и каждый год, вступая в должность, консулы отправлялись в соседний город, чтобы совершить жертвоприношение в честь этих божеств (Макробий, 3, 4, 11; Сервий, Комм. к Энеиде, 2, 296, etc.)