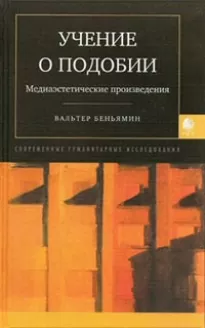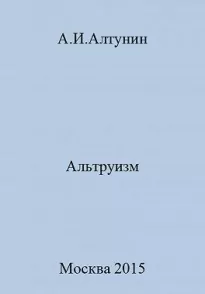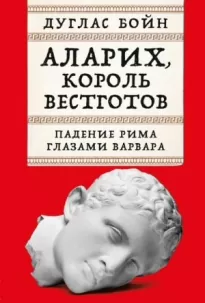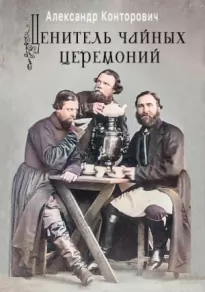Религия древнего Рима
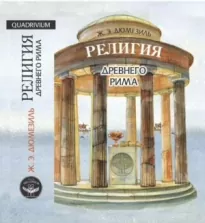
- Автор: Жорж Дюмезиль
- Жанр: Религиоведение / История: прочее
- Дата выхода: 2018
Читать книгу "Религия древнего Рима"
Господин Gustav Hermansen изобретательно сопоставил с этими изображениями один отрывок из Пестрых историй Элиана, где говорится, что племя авзонов в Италии имело в качестве предка некоего Marès — кентавра, прожившего 123 года (это объясняется мистикой чисел: Censor. 17, 5), которому довелось прожить три жизни. Кроме того, Hermansen сравнил с этим стихи из Энеиды (8, 563–567), в которых Эвандр рассказывает, как он в юности убил в бою царя Герула, которому его мать Ферония дала три души, из-за чего его надо было сразить три раза.
Эти сравнения действительно соблазнительны, так же как и тип объяснения, который предлагает господин Hermansen: сцены, изображенные на цисте и на зеркалах, можно сравнить с поступком Фетиды, которая погрузила своего сына в огонь, чтобы сделать его неуязвимым. Иначе говоря, это юношеская инициация. Однако вызывает удивление то, что господин Hermansen принижает значимость элемента, который совершенно очевидно везде является главным: воинственность. Минерва предстает либо вооруженная (зеркала), либо подчеркнуто рядом со своим оружием (циста). Сам Марс на цисте вооружен, а над Минервой, которая им занимается, витает Победа. Обнаженные юноши представлены на зеркалах вооруженными — как живой итог предыдущих сцен. Если привилегия Marès Элиана — родиться и умереть три раза — не связывается категорически со смертью в бою, то, по крайней мере, именно такое значение придает Вергилий аналогичной привилегии, которую имеет Герул. Следовательно, необходимо дополнить интерпретацию, которую предложил Hermansen, восстановив законное место этих деталей и их значение: рассмотренные сцены, очевидно, изображают обряд инициации (или нескольких следующих друг за другом церемоний посвящения) типичного воина, Марса, благодаря чему он должен обрести то, что обычно достигается таким образом: неуязвимость, либо непогрешимую меткость удара, либо преображающую ярость (furor). Те, кто прочитает мой очерк Гораций и Куриаций, опираясь на факты, касающиеся индийцев, ирландцев и скифов, которыми я иллюстрировал историю Рима, — без труда смогут правдоподобно истолковать сцену, изображенную на цисте из Палестрины: их не удивят тройной противник в виде трехглавого монстра и вооруженный юноша, которого женщина купает в ванне с кипятком. Их также не удивит то, что на зеркалах изображены несколько «молодых Марсов». Переданный здесь миф — всего лишь весьма архаичная форма италийского и кельтского мифа, существование которого я должен был предположить: мифа, еще хорошо сохранившегося в легенде о воинском посвящении ирландца Кухулина. Этот миф, которому было дано гуманизированное и историческое истолкование, дал римским летописям исходный материал для эпизода с Горацием и Куриациями.
Фактически единственный персонаж из мифов, который, по-видимому, имел в Этрурии кроме традиционной мифологии еще собственную оригинальную историю — или различные истории в зависимости от местности, — это Геракл (или — в принятом в Этрурии варианте имени — Геркле). Он был там чрезвычайно популярен, и претендовавших на него городов несколько: Manto, эпоним Мантуи, — его дочь; Вольтерра, Ве-тулония, Популония — имели на своих монетах его выгравированную голову. Жан Байе попытался навести порядок и разобраться в этом запутанном и неадекватном скопище указаний мест, перемещений культа, и варьирующихся характеристик персонажей[819]. С другой стороны, тщательно изучив сцены на зеркалах и сосудах, где есть его изображения, Байе выявил немало случаев, когда Этрурия изменяла данные греческих летописей: возможно (как он предполагал) — под влиянием того, что финикийцы говорили о Мелькарте[820]. Так, иногда Геркле изображают подчиненным его товарища — Вилу (Иолая), которого этруски, видимо, отождествляли с ливийско-карфагенским Ioel; и, прежде всего, они создали легенду о том, что большая любовь к женщинам вовлекла его в Этрурии в невероятные приключения, в которых замешаны Туран-Афродита, сама Менрва, а также таинственная женщина по имени ΜΙαχ, которая, по-видимому, не имеет никакого отношения к римской Malacia, упомянутой наряду с Нептуном в одном из комментариев.
Таблички с надписями на этрусском и на пуническом языках, найденные недавно в святилище Пирги — одного из портов Цере, — относятся приблизительно к 500-му году до н. э., и они добавили еще один, но весьма значимый элемент к нашим знаниям об игре в «интерпретации». Св. Августин (Quaest. in Heptateuchum 7, 16) предупреждал о том, что на карфагенском языке Юнону называют Астартой, но на это указание не обратили внимания, так как «карфагенскую Юнону» чаще называли Танит. Сегодня мы знаем, что это смешение — точное и древнее в том, что касается этрусской Юноны, Уни. Пока этрусский текст не получил еще надежного истолкования, приведем тот перевод пунического текста, который предложил André Dupont-Sommer:
Госпоже Астарте (Astarté).
Это священное место — это то, что сделал, и то, что дал Тиберий Велиана (TBRY’ WLNS), царь Церы (KYSDY’, т. е. Cisra), в месяц жертвоприношений Солнцу, в качестве своего (собственного) дара, включающего храм и его центр, потому что Астарта оказала милость своему правоверному: в третьем году его царствования, в месяц KRR[821], в день Погребения богини.
И пусть годы, когда статуя Богини будет находиться в своем храме, станут годами, столь же многочисленными, как эти звезды!
Этрусский текст не оставляет сомнений в том, каким было местное туземное имя Астарты:
ita tmia icac heramaσva [.] vatiexe unialastres θemiasa mex (iuta θefariei velianas sal cluvenias turuce…
Точно так же, как можно распознать имя дарителя — Oefariei Velianas, так и имя богини Уни можно идентифицировать по генитиву Unial-, который известен из других источников. Второй элемент слова, — astres, остается загадочным. Господин Pallottino предполагает, что это искаженная форма имени Астарты, и что в этрусском тексте богиню называют одновременно и ее местным именем, и пуническим эквивалентом этого имени. Это маловероятно; но в одном важном факте сомнений нет: Уни равнозначно ŠTRT, Астарта.
Этот текст создает большие проблемы: указания дней, праздников — дается на пуническом языке. Одно из них — день Погребения богини (или бога?) — намекает на обряд и миф, которые представляются принадлежащими к пунической религии (ср. например, схождение на землю месопотамской Иштар или погребение Адониса[822]). А господин Dupont-Sommer сначала комментирует любую надпись так, как если бы этрусский царь оказывал почести подлинной богине Астарте:
«Самое поразительное, о чем свидетельствует пуническая надпись, это глубокое почтение этрусского царя к великой семитической богине. Если мы правильно перевели строку 6, то этот царь даже провозглашает себя ее “правоверным”. И вот, примерно около 500 г. до н. э. (такова приблизительная дата, которую подсказывают и эпиграф, и археология), появляется семитическое святилище — первое из всех, какие, насколько нам известно, были когда-либо воздвигнуты на итальянской земле, и это сделал этруск. Можно было бы даже сказать, что этот этруск принял финикийский календарь с его названиями месяцев и с его религиозными празднествами. И это святилище, которое он подарил богине, включает в себя храм и bâmâh, подобные тем, какие существуют в Финикии, на Кипре и в Карфагене. Здесь можно заметить первый признак той привлекательности восточных культов, которая окажет продлившееся много веков воздействие на жителей Италии. То, что этрусский царь уверовал в финикийскую богиню, построил ей храм, отмечал ее праздники, считал, что именно ей он обязан своей победой над врагом, — вот о чем нам сообщает текст пунической надписи»[823].
Однако он сразу же благоразумно добавляет:
«Но о чем говорят, со своей стороны, этрусские надписи? Подтвердят ли они впечатление, которое создает пуническая надпись, что этрусский царь полностью принял семитический культ? Или же пунический текст, написанный финикийцем либо карфагенцем, обнаруживает слишком заметные признаки семитизации, а этрусский текст, сочиненный этрусским скрибом, предложит такое изложение, в котором эти экзотические особенности будут меньше выделяться?».
Даже в этом случае надпись из Пирги свидетельствует в пользу семитического мира, о чрезвычайной гибкости этрусской теологии, готовой воспринять — под этрусским именем, под прикрытием имени иноземного бога, которое рассматривается как эквивалентное, — целое учение, мистическое или ритуальное. Политика того времени хорошо объясняет эту моду на все карфагенское. Господин Dupont-Sommer напоминает (Hérod. 1, 166–167) о союзе и общей победе тирренийцев и карфагенян около 540 г. над фокейцами, расположившимися в Корсике. Среди сражавшихся и среди тех, кто получил выгоду от победы, Геродот выделяет людей из Агиллы, т. е. как раз из Цере. Однако это увлечение будет недолгим — и, в конце концов, именно Греция будет постоянно изливать на Этрурию свои сокровища мышления и представлений. Тем не менее, весьма ценно, что мы можем идентифицировать богиню под ее четырьмя именами: Юнона — Уни — Астарта — Гера.
По отношению к большинству этрусских богов, не получивших греческой интерпретации, разумно ограничиться описью имеющихся данных и не пытаться их интерпретировать. Впрочем, некоторые считают, что могут понять то, что написано на полосках ткани загребской мумии, на черепице из Капуи и на надгробии в Перудже, а также на свинцовых пластинках Маглиано, Вольтерре, Монте Питти и Кьюзи, и думают, что могут с пользой истолковывать их… Иногда удается, интерпретируя изображенные сценки и греческих персонажей, которые там присутствуют, внести ясность в отношении других персонажей, имена которых неизвестны.
Так например, Туран-Афродита окружена группой рабынь, занятых туалетом своей госпожи, по своим функциям — Харит и Ор, но носящих этрусские имена: Алпан(у) (Alpan(u)), Ахвизр (Axvizr). Э. Бенвенист полагает, что можно прояснить Axvizr (Acaviser) греческим (или, вернее, эллинизированным до-эллинским) именем, сохранившимся на острове Самофракия: там почитали, среди Кабиров, некую ̓Αξίερος (возможно, это древняя *Axsiver-), которую комментатор Аполлония из Родоса (1, 917) отождествляет с Деметрой (тогда как двух других Кабиров — Axiokersa и Axiokersos — отожествляют с Персефоной и Гадесом). И вот, как раз на одном зеркале (Герхард, Etr. Sp., IV, c. cccxxiv) можно видеть Axvizr рядом с Алпану. «Эта последняя, волосы которой удерживает широкая повязка, левой рукой обнимает за талию Axvizr, приблизив к ней лицо как бы для поцелуя, а в правой руке держит яблоко, свисающее с ветки». Как справедливо заметил Герхард (IV, с. 61–62), «это сразу наводит на мысль о возвращении Персефоны к Деметре». Это очень соблазнительная интерпретация, и из нее можно было бы сделать далеко идущие выводы, но это, конечно, невозможно подтвердить. Сцена нежностей между Алпану и Ахвизр может быть истолкована и иначе, чем встреча. Подобно тому, как Амуры резвятся вокруг Венеры, вполне можно себе представить, что любезные спутницы Афродиты-Туран отдыхают, поедая фрукты и проявляя любовь друг к другу[824].
Иногда неясность распространяется на пол божества. Конечно, — как подчеркнул Бенвенист, — взаимозамена пола нередко является всего лишь следствием ошибки писца. Так, на двух зеркалах V в. имена Heplenta (Ίππολύτη) и Pentasile (Πενθεσιλεία) отнесены к мужчинам. Следовательно, когда (родовое?) наименование Lasa девять раз отнесено к богиням, а один раз написано над юношей, то вполне вероятно, что в последнем случае мы имеем дело с ошибкой. Но как быть с Леинтом (Leinθ)? Выше было отмечено, что в сценах инициации юного Марса имеется изображение мужчины с этим именем — вооруженного копьем воина, — тогда как именем Леинт на одном из зеркал из Перузы назван инфернальный женский образ, с закутанной верхней частью тела. Эта женщина как бы оглядывается назад, тогда как вторая женщина, Mean, увенчивает Hercle лавровым венком, а он уходит, уводя за собой Цербера.