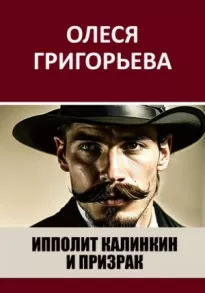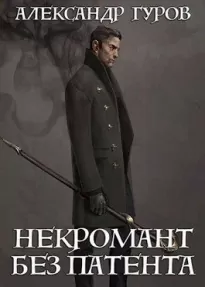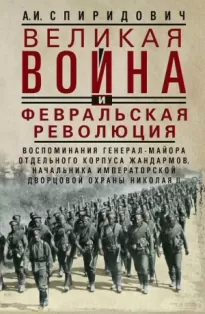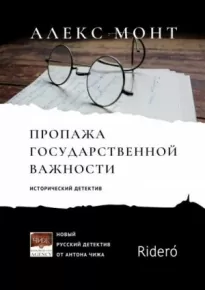Сокровища ханской ставки
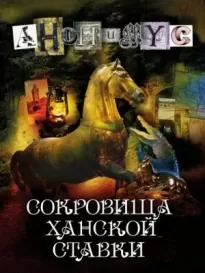
- Автор: Анонимус
- Жанр: Исторический детектив / Детектив
Читать книгу "Сокровища ханской ставки"
– Вы что же, думаете, это я грамотку написал и подсунул ее старику? – возмутился Ячменев.
Нестор Васильевич заметил, что ничего подобного он не говорил. Однако стало очевидно, что кто-то очень хочет, чтобы убийство в селе Розумихино списали на безответную и, скорее всего, несуществующую рептилию. Естественным образом под подозрение попал Дмитрий Сергеевич как наиболее рьяный защитник крокодильей теории. Вдобавок, вряд ли кто-то кроме него смог бы стилизовать сказание под старинный слог и записать его в соответствии с тогдашней грамматикой.
Впрочем, история с фальшивой грамоткой оказалась тут вовсе не главной. Из разговора с дедом Семеном Загорский вынес куда более важную вещь. Одно из сказаний, которые спел рапсод, повествовало о золотом коне Батыя.
– О, это должно быть очень интересно! – заявила Варвара Евлампиевна. – Вы нам расскажете об этом коне?
Действительный статский советник отвечал, что такой прелестной барышне он готов рассказывать хоть обо всех конях Золотой орды. Она подняла бровь: господин Загорский, кажется, решил за ней приударить?
– Как это ни грустно, но нет, – покачал головой Нестор Васильевич. – Просто я до глубины души восхищен вашей выдержкой и самообладанием.
– Да никакой нет у меня ни выдержки, ни самообладания, – заметила Варвара Евлампиевна, – просто я ни в чем не виновата. Однако же вы обещали рассказать об этом вашем коне Чингис-хана.
– Не Чингис-хана, а Бату-хана, или, попросту, хана Батыя, – поправил ее Нестор Васильевич. – Несмотря на некоторую брутальность моей профессии, я джентльмен, и не могу отказать даме в такой малости. Итак, золотой конь Батыя, а, точнее сказать, золотые кони – это предметы, имеющие необыкновенную историческую, археологическую и просто материальную ценность. До сего дня они считались утраченными безвозвратно.
Однако прежде, чем обратиться к коням, Нестор Васильевич прочел небольшую лекцию о хане Батые. Внук великого завоевателя Чингис-хана, Батый и сам был воином не из последних. Им была завоеваны не только древнерусские княжества и сопредельные народы, Бату-хан разбил польские войска, захватил Венгрию, Хорватию, Далмацию, Боснию, Сербию и Болгарию. В конце концов монголы добрались даже до Центральной Европы и только Божья милость спасла от разгрома Священную Римскую империю.
После этого Бату-хан вернулся в низовья Волги, и основал посреди степи свою столицу Сарай-Бату. В строительстве города приняли участие пленные мастера и вышел он на славу. Но главным украшением монгольской столицы стали два золотых коня. Всю дань, собранную за год, Батый велел обратить в золото, и уже из этого золота отлить двух коней, в глаза которым мастера вделали крупные рубины. Кони эти были поставлены у ворот столицы и олицетворяли собой могущество и богатство Золотой орды. В четырнадцатом веке столицу перенесли в город Сарай-Берке, сюда же перевезли и золотых коней.
В 1380 году на Куликовом поле русские полки под водительством князя Московского и Владимирского Дмитрия Ивановича[27] разгромили войско монгольского темника Мамая. Темник бежал, вместе с ним из монгольской столицы исчезли и золотые кони. По легенде, один из коней был захоронен рядом с телом Мамая. Его долго искали, но так и не нашли, как не нашли и самой могилы монгольского темника. В тех местах до сих пор имеется какое-то количество курганов, которые называются «мамаевыми». Не нашли и второго коня, хотя его судьба казалась более ясной. Так, старики в заволжских казачьих станицах до сих пор рассказывают, что следом за отступающими монгольскими войсками русские разъезды стали небольшими группами проникать на территорию Орды. Один из таких разъездов якобы прорвался даже в саму столицу Сарай-Берке. Ни захватить город, ни удержать его русские не могли – слишком они были малочисленны. Зато им удалось отломать основание одной из золотых статуй, погрузить ее на подводу и сбежать прочь с бесценной добычей.
Правда, уйти русским не удалось. Спустя некоторое время монголы пустили за похитителями погоню. Русские, обнаружив преследователей, решили вступить в бой. Однако силы были неравны, русский отряд был истреблен весь до последнего человека. Тем не менее, золотого коня Бату-хана ордынцы так и не нашли – ни тогда, ни позже. Увезти драгоценную статую русские не успели бы, точно так же, как не успели бы ее закопать. Делались предположения, что они ее попросту утопили.
– Где утопили – в реке? – спросила Варя, жадно слушавшая рассказ.
– Это первое, что приходит на ум, – кивнул Загорский. – Однако они вряд ли бы поступили так. Река, во-первых, занесла бы статую песком, во вторых, понемногу отнесла ее вместе с песком вниз по течению, после чего уже никто не смог бы ее обнаружить. Вероятнее всего, золотого коня утопили в стоячей воде – озере, болоте, пруду или другом подобном водоеме. Так вот, согласно былине, которую пропел мне дед Семен, конь этот был утоплен не где-нибудь, а в здешнем озере Листвянка.
– Ну, и при чем же тут мы? – раздраженно пожал плечами Ячменев.
– А вот тут позвольте мне вернуться назад, к началу нашей истории, – улыбнулся Нестор Васильевич.
Когда действительный статский советник появился в здешних местах, он планировал в первую очередь разобраться, что же представляет собой барон фон Шторн и чего ради после многолетнего перерыва вдруг поехал он в Розумихино с археологической экспедицией.
– То есть что значит – чего ради? – возмутился барон. – Как вы сами верно заметили, я приехал сюда заниматься раскопками.
Действительный статский советник кивнул: все верно, Прикаспийская низменность богата стоянками древнего человека. Однако непонятно, почему барон отправился именно в Розумихино. В окрестностях этого села до сего дня ничего не находили. Естественнее было бы сдвинуться на восток или юг, там места в этом смысле гораздо перспективнее.
– А вот это уж позвольте мне определять, где именно копать, – внезапно заметил фон Шторн. – Или, может быть, вы сами – археолог и лучше всех остальных знаете, как нам заниматься наукой?
– К сожалению, я совсем не археолог, – повинился Загорский. – В противном случае разговор наш был бы куда более предметным. Однако, будучи следователем, я обратил внимание на одну деталь. Основные события, в том числе и криминальные, в этой истории связаны с местным озером. Тут и вероятное утопление Саара, и найденный мундир следователя, и легенда про крокодила. Я предположил, что все это – не случайно, что, может быть, господин барон явился сюда вовсе не для раскопок, что раскопки – это лишь отвлекающий маневр, а основной его интерес связан именно с озером. И если так, то вполне возможно, что и раскопок-то никаких нет, а все якобы найденные тут черепки привезены заранее, для отвода глаз.
– Что за бред, – барон даже побагровел от возмущения. – Я археолог, неужели вы думаете, что я бы стал подделывать раскоп?
Загорский, разумеется, не был в этом уверен и на всякий случай решил проверить. Он незаметно изъял из раскопа пару черепков и отправил их известному ученому, профессору Московского археологического института Василию Алексеевичу Городцову, чтобы тот дал свое заключение, где мог быть найден такой осколок.
– К сожалению, ответ должен был прийти только спустя несколько дней, ну, а пока я продолжил следствие, – продолжал Загорский. – К моменту нашего знакомства у меня уже хватало фактов, наводящих на размышления: оригинальное поведение барышни Котик, кража и загадочное возвращение наших вещей, странный культ крокодилов учителя-марксиста Ячменева. К числу этих странностей немедленно добавилась и еще одна: все работники барона, кроме покойного Саара, не понимали русского языка, да к тому же еще были неграмотными. То есть вытянуть из них хоть какие-то сведения без участия барона представлялось делом почти невозможным. Согласитесь, на фоне убийств и исчезновений подобная артель «немых» выглядит крайне подозрительно.
– Я уже говорил, – с раздражением заметил барон, – я говорил, что это мои преданные работники, простые крестьяне, не знающие других языков, кроме собственного.
Насчет того, что работники эти преданы своему хозяину – еще как преданы! – так вот, на этот счет у действительного статского советника никаких сомнений нет. А вот насчет того, что все они из одной семьи – с этим позвольте поспорить. Три из них, действительно, близкие родственники. А вот рыжий великан Гуннар, очевидно, был совершенно из другого рода.
– Как вы это определили? – пожал плечами фон Шторн. – По тому, что у трех Мяги волосы соломенные, а у него – рыжие? Это ничего не значит, даже родные братья могут сильно различаться по внешнему виду.
– Могут, – согласился Нестор Васильевич. – Однако дело не только в волосах. Есть целый ряд признаков, определяющих наследственность и указывающих на нее. Если вам это интересно, отсылаю вас к трудам Августа Вейсмана, Томаса Моргана и в особенности же к работе Вильгельма Иогансена «Элементы точного учения наследственности». Определив, что Гуннар не относится к семейству Мяги, я получил основания не доверять и некоторым другим вашим словам. Я, например, предположил, что он, в отличие от остальных работников, все-таки понимает русский язык. Я даже проверил эту свою теорию. Я построил разговор с ним таким образом, что пару раз он отреагировал на вопрос раньше, чем вы перевели ему мои слова на эстонский. И мне стало ясно, что русским он владеет вполне сносно. От этого подозрения мои только усилились…
Тут за окном началась собачья драка, и Загорский на секунду отвлекся, глянув на улицу. В ту же секунду Ячменев бросил мгновенный взгляд на дверь. Однако Ганцзалин перехватил этот взгляд и, неприятно оскалившись, погрозил учителю пальцем, как школьнику, задумавшему какое-то озорство. Дмитрий Сергеевич отвернулся с деланным равнодушием.
– Н-да, – сказал действительный статский советник, переводя взгляд с улицы на барона. – Чем больше я живу, тем больше убеждаюсь, что люди по своим свойствам не слишком отличаются от животных, а если и отличаются, то в худшую сторону… Но, однако же, продолжим.
Итак, Загорский понял, что, во-первых, Гуннар не относится к семейству Мяги, и, во-вторых, он вполне способен изъясняться на русском.
Впрочем, появление в раскопе головы несчастного Саара немного сбило действительного статского советника с толку. Злосчастная голова как будто подтверждала концепцию о наличии в озере крокодила-людоеда. Относительно того, как она попала в раскоп, вполне правдоподобно прозвучала версия Гуннара: после того, как голова оказалась на берегу, ее могли притащить и зарыть в песок дикие звери.
Однако довольно скоро Загорскому стало ясно, что все эти странности не случайны и складываются в общую картину. Он понимал, что Саара убили, понимал, что то же сделали и со следователем. Очевидно было и то, что кто-то пытается спихнуть убийства на крокодила – по его ощущениям, совершенно мифического. Впрочем, был небольшой шанс, что ящер существует в действительности: его на самом деле мог выпустить в озеро странный помещик Погудалов. Тем более, в отличие от большинства здешних солончаковых озер, вода в Листвянке почти пресная, даже рыбы там водятся, так что крокодил вполне мог в нем выжить. Но только в теплое время года: зимой тут довольно холодно, и даже если озеро не замерзает, крокодил все равно вряд ли бы выдержал такую разницу температур.