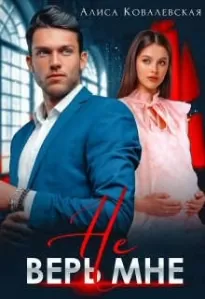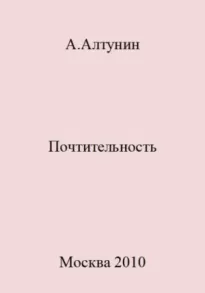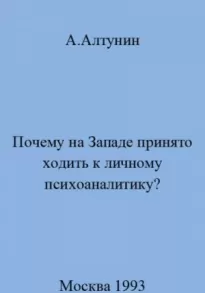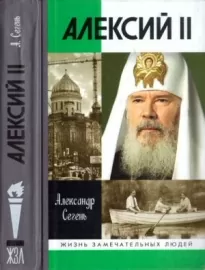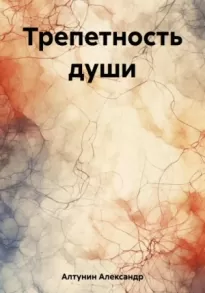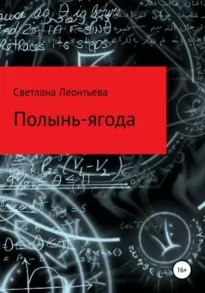Страсти по России. Смыслы русской истории и культуры сегодня
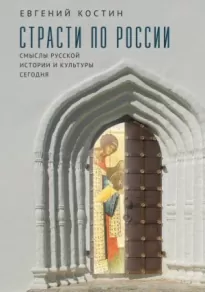
- Автор: Евгений Костин
- Жанр: Культурология / История: прочее
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Страсти по России. Смыслы русской истории и культуры сегодня"
В чем причины постоянной исторической реинкарнации России?
Россия – это мир становления. Все в нем меняется или очень медленно, или, напротив, очень быстро. В этой очевидной констатации запрятаны многие ответы на загадки России, как ее воспринимают на Западе. Хорошо известны слова Черчилля на этот счет: «Загадка, завернутая в тайну и помещенная внутри головоломки» (один из вариантов перевода). Но мы сейчас обратим внимание на очевидное противоречие, кроющееся в такого рода утверждениях. Получается, что мы, русские, по своей ментальности, особенностям национального характера склонны к противоположным по направлению и качеству действиям. То же самое можно наблюдать и в том, как русский человек относится к своему отечеству. Он может его одновременно нежно, без памяти любить, и в тот же самый миг жестоко его критиковать, отыскивать видимые и невидимые пороки и скверные стороны государственного устройства. Эта «отрицательность» упирается как раз в эту амбивалентную особенность национального сознания. Русский человек гораздо быстрее и легче обнаружит недостатки управления, некомпетентность властей, отсутствие нормальных дорог, всеобщую безалаберность, чем собственное желание заниматься текущими делами, незначительными и кажущимися ему неважными. Кто только из великих умов не оттоптался на этой беспощадной критике русского общества и России как государства. При этом изначально, особенно ярко с начала XIX века, стала звучать нота необходимого учительства у Запада, обнаружения на «той» стороне подлинных культуры и света. Этот парадокс объясняется достаточно просто, именно с конца XVIII и в начале XIX века, еще до войны с Наполеоном, русское дворянство стало достаточно часто выезжать в Европу, посещать модные курорты, европейские столицы и пр.
Такого рода «брюзжание» стало во многом общим местом для тогдашнего великосветского дискурса, и надо было обладать масштабом личности Пушкина, чтобы противопоставить такому мнению иную, скажем аккуратно, патриотическую позицию. Конечно, в определенной степени после Наполеона эта линия «преклонения» перед Западом вначале сошла на «нет», но очень скоро нашлись новые очаги поклонения в виде немецкой культуры, и особенно, немецкой философии.
Россия, конечно, активно усваивала идеи европейского Просвещения. Они, будучи чрезвычайно плодотворными для развития культуры и общественного сознания, влияли на просвещенческий стандарт восприятия мира русским обществом, который породил в свою очередь идеи широкого образования, развития искусств и науки, воспитания свободного гражданина (при этом приветствовались и атеистические настроения), способствовали зарождению в России соответствующих моделей жизни и поведения. Так что объективная подкладка под такого рода возвышенным отношением к Западу существовала в русском обществе, и от этого обстоятельства никуда не деться, анализируя взаимоотношения России и Европы.
Эти взгляды и настроения сопрягались с врожденным чувством большинства русских людей – от дворянства до крестьян – любви к своей родине. Такой симбиоз не мог не породить известной двойственности в образе мысли и в социальном поведении, прежде всего, образованного слоя русского общества, дворянства. Более того, на определенном этапе развития России тенденция социального критицизма стала выступать в качестве довлеющей для определенных классов общества. Я много анализировал этот феномен в своих книгах, обращая внимание на то, что наиболее революционизируемым стратом русского социума были так называемые разночинцы, выходцы из деклассированных, во многом маргинальных, слоев русского общества. Именно они, в итоге, стали тем самым горючим материалом, который удалось вначале воспламенить народовольцам, устроившим террористическую войну с собственным государством, а потом вовлечь в этот процесс и более широкие слои населения, какие сподобились на целый цикл революционных потрясений России в начале XX века.
Ментально это легко легло на вышеотмеченную двойственность национального характера, уверовавшего, что где-то, но не у нас, и порядка больше, и люди живут лучше, и «дороги есть», а здесь, у себя в отечестве одно сплошное безобразие. К тому же на это накладывалось архаическое чувство, так или иначе, подспудно объединявшее русское общество, что Россия – это богоизбранная страна, «третий Рим», что такого близкого Богу народа нет больше нигде на свете.
Для того, чтобы прочувствовать все эти противоречия, носящие во многом сказочный характер с точки зрения западного рационализма, достаточно обратиться не к трудам философов, социологов, историков того, да и нашего, времени, но к текстам русской литературы, которая объяснила все эти контрадикции лучше всякого Гегеля. Так и привык жить русский человек в тенетах этого раздвоенного отношения к своей родине, выбирая то или другое к ней отношение в зависимости от исторической ситуации.
Вот и Герцен, на которого я уже не раз ссылался в этой книге, представляет собой истинного русака – и любящего Запад и его ненавидящего, но зеркальным образом так же относящимся к России. В конце XIX века и в начале революционного двадцатого столетия такое отношение ярко было выражено у великого русского парадоксалиста Василия Розанова.
Русскому человеку всегда не хватало и не хватает до сих пор той самой пушкинской трезвости отношения к своей родине, какую мы обнаруживаем в его писаниях, дневниках, письмах и во всем его творчестве. Уже позже, другой русский трезвомыслящий писатель, Михаил Булгаков, заметит, что русский человек более всего страдает от «неуважения себя». Это наша родовая черта, какая не позволяет выверено и продуманно относиться к жизни России, ее истории. Это мешает и каждому из нас, русских мыслителей XXI века, четким образом позиционировать самих себя, свои труды, свою семейную жизнь, связанную с рождением и воспитанием детей и внуков, на фоне и, не отрывая себя, от жизни твоего государства. Слишком многое в нем тебе не нравится, хочется исправить, наладить должным образом – таков основной лейтмотив менталитета русского человека. А гордость за отчизну и почтение к национальным святыням он проявляет в основном по тем или иным датам. Такого рода психологическая парадоксальность выразилась в русской поговорке, совершенно не понимаемой западным сознанием, – «кого люблю – того и бью».
Понятно, что и русское государство не очень много делало в своей истории, чтобы пробуждать и воспитывать добрые чувства по отношению к самому себе в своих гражданах. Пренебрежительное отношение к частной человеческой жизни, восприятие индивида в первую очередь как винтика общей государственной машины и части социальных структур, весьма легкомысленное, если не сказать тверже – наплевательское отношение к бытовой, повседневной жизни каждого русского человека, – все это хорошо знакомо русскому человеку, независимо от того, в какой исторической эпохе ему довелось родиться и жить в России. Это обесценивание жизни отдельного человека, какое было присуще существованию русского государства на протяжении всей его истории, имеет два основных аспекта. С одной стороны, государство, так настроенное, куда легче посылает своих граждан на всякого рода войны, на «великие» и рабские по существу стройки, сравнимые с древнеегипетскими трудами по созданию пирамид, а с другой, и сам человек привыкает к такой парадигме своих отношений с государством. Оно, государство, всегда главнее, важнее, мощнее, чем отдельный, «маленький» человек – в ментальности русских людей. Соответственно выстраивается и «картина мира» в сопутствующей данным отношениям отдельного человека и государства, культуре.
Русская литература особенно остро ощущала эту внутреннюю национальную трагичность и российского государства, и человека, в нем живущего, и все время занималась именно защитой маленьких, униженных и оскорбленных людей, и преуспела в этом настолько, что смогла прогенерировать все русские революции, какие легли в основание нового исторического «выверта» России для всего человечества – создание ею новой империи (советской) на принципиально новых основаниях общественного устройства. Но и в той новой, по сравнению с царской, империи было то же самое, пренебрежительное отношение к отдельному человеку. Так что глобально почти ничего не изменилось.
При этом русское государство использует то самое родовое свойство психологии, эмоциональной картины мира, врожденного коллективизма (то в форме общины, то в форме колхозного сообщества), привязанности к своему этносу сверх всякой меры, наконец, генерализируемое начало православного верования, какое скрепляет весь этот рыхлый конгломерат отдельных личностей в народ крепче всякой глины. И это последнее становится неявным, но самым существенным и опорным моментом существования народа как целого.
Вот он, отдельный русский человек, живет себе, поживает в тех или иных исторических обстоятельствах, привычно страдает от государства, от его начальников, терпит все это, так как «Бог терпел и нам велел», но вдруг, в экзистенциальных обстоятельствах возможной гибели государства и его самого со своим семейством, разрушения привычного уклада жизни, в мгновение ока через какие-то энергии он подключается к тем пластам этнической памяти, где к нему взывают протопоп Аввакум, Козьма Минин, Суворов, адмирал Ушаков, Михайло Кутузов, а дальше и Пушкин с Гоголем, Толстой с Достоевским, а тут и Жуков ставит точку над всей западной цивилизацией, дерзнувшей изменить привычный для русского человека ход истории.
От «своих» русский человек готов стерпеть почти все, что угодно, на что не способны люди, живущие чуть ли не рядом, вот тут, за горой или лесом, но от «чужих» он не желает сносить самую малость притеснений и тем более покушений на его привычный уклад жизни. И пусть этот уклад кажется удивительно отсталым, уже и не используемым продвинутым западным соседом, но вот он срабатывает безупречно, когда наступает решающая минута и необходимо разобраться с тем, будет ли жива русская земля и не отвернется ли от нее Бог?