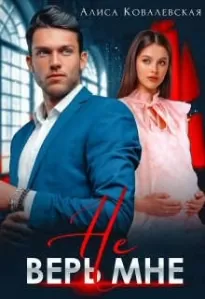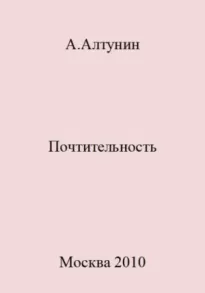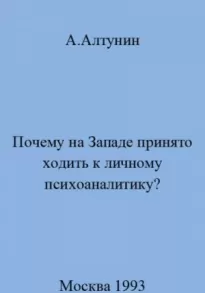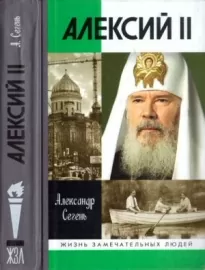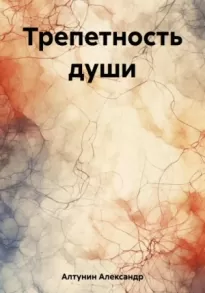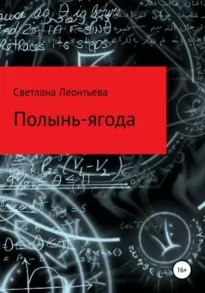Страсти по России. Смыслы русской истории и культуры сегодня
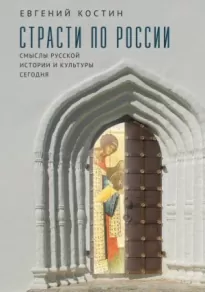
- Автор: Евгений Костин
- Жанр: Культурология / История: прочее
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Страсти по России. Смыслы русской истории и культуры сегодня"
Шолохов и Гете. К понятию «мировоззрение Шолохова»
Данный вопрос, который формулируется нами применительно к миру писателя, который своим творчеством раздвинул череду гениев русской литературы и определил новые перспективы ее развития, носит чрезвычайно сложный – с философско-эстетической точки зрения – характер. При этом уместно заметить, что автор настоящих заметок не озабочен идеологической и, соответственно, эстетической и философской перекодировкой наследия писателя применительно к текущему историческому моменту. Значение художественного мира этого писателя и его эстетического наследия куда серьезнее, чем желание так или иначе приукрасить некоторые его позиции и доказать несведущему читателю, что их кумир почти предвидел случившийся поворот в истории собственной страны (по счастью случившийся уже после смерти художника), или, того пуще, осуждал прежний (советский) режим. К слову сказать, у Шолохова в его текстах, художественных и публицистических, немало обнаруживается прямой социальной критики, так что при желании эту процедуру можно осуществить.
Как раз наоборот, Шолохов не из художников-визионеров, какие забавляются проекциями будущего, выстраивая те или иные модели дальнейшего существования человека и общества. Он был слишком укоренен в реальности, чтобы заниматься фантазиями и воплощением этих фантазий в жизнь. Его беспокоило внутреннее неизбывное противоречие осуществляющегося бытия, – и это значительная часть размышлений как его самого, так и лучших героев – что жизнь поворачивается к народу и людям все время трагической своей стороной, подчас приобретающей характер предельной избыточности. При всей своей жизнепозитивности, так сказать родового толка, Шолохов остро чувствовал переломный характер эпохи и ничего лучшего не мог придумать, как выписать эту переходность с изумительной правдивостью.
Эта его онтологическая раздвоенность [1] носит, как ни странно, характер известной целостности на более высоком уровне. И существо этой целостности, полноты воспроизведения бытия в слове можно понять и объяснить, ухватив именно что – суть его художественного мировоззрения. Причем и его личностное миросозерцание представляет значительный интерес не только для въедливого исследователя, но и для анализа состоявшейся и уже ушедшей эпохи. К тому же рассмотрение мировоззрения Шолохова дает замечательный материал для сравнения с похожими философско-эстетическими проявлениями миросозерцательных позиций у других русских писателей, равно как и он сам, находившихся в одной и той же парадигме описания русской жизни XX столетия. Фамилии всем известны, но еще раз укажем на самые значительные с точки зрения выделенности особого мировоззренческого элемента, о котором у нас пойдет речь: Есенин, Платонов, Пришвин, Твардовский, Белов, Распутин и ряд других. Все они похожи друг на друга отсутствием подробной эстетической рефлексии по осознанию своей связи с предшествующей художественной традицией. Этого им как бы и не надо, они заняты гораздо более существенными проблемами – пониманием и оценкой жизни в ее неприкрашенном онтологическом смысле [2].
Лучшим способом приближения к данной проблеме становится сопоставление эстетики и философии писателя (Шолохова) с чем-то подобным ему и уже состоявшимся в истории культуры. Обратимся к анализу схожего вопроса в творчестве Гёте. Вот что пишет глубокий знаток немецкой культуры и творчества Гёте в частности, философ и культуролог Карен Свасьян: «Уже на самом пороге темы сталкиваешься со знаком равенства; нет мировоззрения Гёте в форме систематизированного компендиума взглядов; говорить здесь о мировоззрении значит говорить о личности, и подчас бывает трудно определить, где это мировоззрение очевиднее и ярче: в писаниях ли Гёте или в фактах его биографии. Приходится признать: ненавязчивая убедительность гётевского стиля, убедительность тем более ошеломляющая, что не нуждающаяся в логических подпорках даже там, где подпорки эти считаются обязательными, проистекает из непосредственной связи с жизнью; эта жизнь служит наиболее решительным аргументом в пользу мировоззрения» [4, с. 54].
Если убрать из этого размышления имя Гёте и поставить вместо него имя Шолохова, то верность данного утверждения ничего из себя не потеряет. Напротив, это позволит увидеть типологическую близость творческих миров общечеловеческих гениев в том, что касается определения особенностей содержания их произведений с точки зрения эстетико-мировоззренческой.
Есть и еще одна черта, сближающая миры Гёте и Шолохова, это их взгляд на природу. Исследователи давно привыкли указывать на некую объективную линию в изображении природы у немецкого гения; неоднократно в русском литературоведении, и автором этих строк, в том числе, говорилось об этой же античной феноме-нологичности изображения природы у русского писателя, которая не похожа ни на что ранее определившееся в русской литературе. А традиция эта – изображение природного мира – одна из самых сильных в русской словесности. Но Шолохов и здесь находится в совершенном эстетическом одиночестве; природа живет у него своей особой жизнью, она близка человеку, объемлет его всеми своими проявлениями, поддерживает его, но в то же самое время (как бы отдельно от человека) пребывает в своей бесконечной бытийности, не теряя свойства, отмеченного еще Пушкиным, – некоего «равнодушия». Так, как у Шолохова, природа не была увидена и понята во всей русской литературе. По-своему, формулы, развернутые описания природной жизни, представленные у писателя во всех его произведениях, – это и есть отпечаток значительной части мировоззрения Шолохова. Но то же самое обнаруживается и у немецкого писателя: «Природа (у Гёте – Е. К.) предстает… не как объект познания, а как объект изумления; образно выражаясь, в человеке выключены все рефлектирующие способности и включена лишь одна, изначальная, воистину человеческая, катастрофически убывающая и самим фактом убывания своего убивающая в человеке все…» [4, с. 52]
Это глубокие слова, и они словно списаны с любой природной картины донского писателя. Через них видно главное, основное – вот название его главной книги: «Тихий Дон», далее в ней в изобилии представлены картины степи, курганов, земли, рек (не только Дона), рощ, перелесков, как бы заново сотворена вся природная живность, в изумительной полноте воссозданная в эпопее, и – главное – люди, его герои, показанные и вблизи, в параллели с природой, и совершенно отдельно от нее. Природа у Шолохова – от шмеля, показанного с изобразительной силой превышающей всякого рода набоковские фокусы до изображения любой природной стихии, любого листика, жаворонка, весеннего ручья, – это больше, чем природный антураж или картины природной жизни. Здесь та часть шолоховского мировидения (мировоззрения), которая объясняется словами Гёте: «Высшее, чего человек может достигнуть, – говорил 80-летний Гёте, – есть изумление» [3, с. 308]. Философ, его интерпретатор, продолжает: «И здесь же тупицей называет он всякого, кто лишен способности изумляться. Ибо познание – страстная игра, свершающаяся между двумя полюсами изумления – начального и конечного. Изумление, по Гёте, – инвариант в диалектике незнания и знания, или же оно – первая ступень знания, фон, на котором должно разыгрываться действительное познание; фон этот – чувство имманентности природе» [4, с. 56].
Придется в данном моменте отклониться от линии сугубо теоретического изложения сути проблемы и обратиться к условной терминологии русских формалистов, какие обнаружили подобный элемент в творчестве Льва Толстого и назвали его «остранение» (В. Б. Шкловский). Это то же самое «изумление», взятое в несколько отвлеченном и теоретическим виде – жизнь видится как бы впервые, гений художника снимает нанесенные человеческой обыденной привычкой и предшествующей эстетической традицией стереотипы и демонстрирует нам действительность в своей первооснове, заново. Нелишне заметить, что такое «снимание покровов» доступно истинным гениям в человеческом прежде всего смысле: надо быть равновеликим самому бытию, «изумиться» ему, как изумился первый человек, пущенный Господом в райский сад, Но и этого мало – надо смочь воссоздать это изумление таким образом, чтобы оно ничего не потеряло из своей силы и первоначальности, дать чувству неповторимый художественный эквивалент. Шолохов в своих картинах природы делает так, что всякий читатель, и тем более умудренный опытом исследователь, потрясается равновеликостью природных образов самой непосредственной жизни. «Сотри случайные черты», – сказал другой гений, вот Шолохов и «стирает» с картин изображения природы случайные и второстепенные черты и дает нам жизнь как впервые увиденную красоту и полноту бытия, как божий дар, данный человеку, как нечто неповторимое почти в космическом смысле.
Нельзя не признать, что взгляд Шолохова на природу носит какой-то особый характер. Этот вовсе не природные зарисовки, какими обычно тот или иной автор разбивает свое повествование, указывая через них на готовящиеся изменения в судьбах героев, в их внутреннем самоощущении; это даже не тот параллелизм фольклорного происхождения, о котором мы сами не раз писали и который на самом деле наличествует у писателя. Его образы природы явно превышают тот объем художественности, какой нам знаком по прежним эпохам развития искусства.
Говоря совсем просто – это безусловные куски, объемы природной жизни, какие обладают, с нашей точки зрения, дуальной эстетической природой. Имеющиеся в национальной памяти очевидные формы воссоздания природных образов и всего природного мира (как в фольклоре, так и в русской классике), выступая как интегрированные в общую систему воспроизведения бытия аспекты объективной действительности, одновременно обладают некоей сверх-объективностью. Не в том отношении, что они не имеют никакой связи с рассказываемой историей, с судьбами героев, что в них не прорывается собственно и голос самого автора, но в том, что их расширительный и не понимаемый нами до конца мировоззренческий смысл изображенных картин природы существует сам по себе. Он превышает субъективность как нашего, читательского, ее, природы, восприятия, так и авторского (смеем утверждать) отношения. Это, если хотите, некая совсем уже никем не отменяемая правда и основа бытия в принципе, воплощенная не в случайностях и трагизме протекающей истории, не в судьбах героев при всем их «очаровании» и сложности, не в очеловеченной, в том числе и через авторский нарратив какой-то истины в осознании жизни, но в вос
создании этой базы, почвы природного (божественного) бытия, что выше и больше всего на свете.
Она может быть помогающей человеку (герою) своей антропологической сущностью, она может почти раздавить человека отражением его трагедии («черное солнце» и «черное небо» в финале «Тихого Дона»), она может «отпеть» человека, как в картине смерти и могилки Валета, она может равнодушно взирать на мучения человека – она может все.