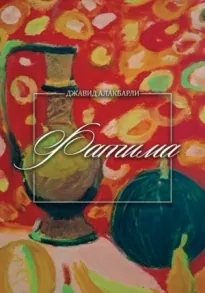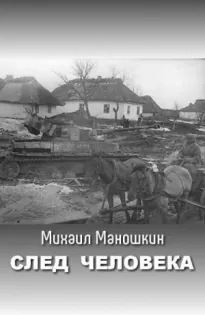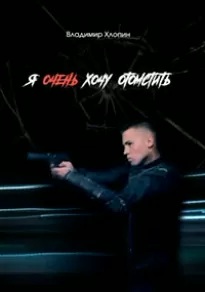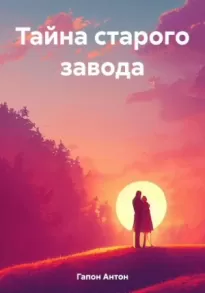Дорога к людям
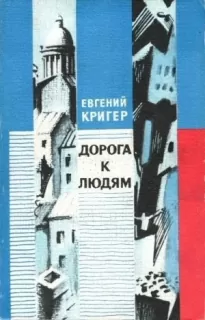
- Автор: Евгений Кригер
- Жанр: Публицистика / Биографии и Мемуары
- Дата выхода: 1981
Читать книгу "Дорога к людям"
Собственно говоря, нам-то, тогдашним мальчишкам, в этом сказочном универсальном ноже мог пригодиться только самый нож. Остальное же — на что оно нам? Для нас и пшено было лакомством, а пшенную кашу, как известно, в жестяные банки не запечатывают. Консервов же ни мы, ни наши папы и мамы, как говорится, даже не нюхали.
Словом, «союзники» были экипированы сверх всякой меры, а вооружены, конечно, еще пуще того. Да, вооружены они были превосходно.
И вдруг...
И вдруг в одну ночь, к рассвету, как ведьма в сказках при первом крике петуха, сгинули все они, дородные, по-сытому красивые, франтоватые. Вежливые и безжалостные. Сгинули.
Непонятно.
Впрочем, непонятное попытаюсь объяснить позже, а сейчас память упрямо возвращает меня в то далекое зимнее утро двадцатого года, когда, выскочив на улицу, мы вдруг увидели прежний Архангельск, северодвинский русский город, мгновенно освободившийся от признаков интервенции.
Тот же наш город. Простой. Неказистый. Верный себе русский город.
...Морозным февральским утром 1920 года входили в город красноармейцы 6‑й нашей армии, одетые кое-как, — тут уже не до шоколада, не до галифе британского покроя, — давно не бритые, не только усталые, но изможденные, наверное, голодные, но каким же вкусным оказался нам черный хлеб, который на ходу давали мальчишкам и девчонкам красные солдаты из своего скудного пайка!
Не забуду этот хлеб — грубый, тяжелый, какой-то колючий, пополам с мякиной хлеб 1920 года. Я прижал черный каравайчик к груди, побежал домой и с гордостью показал отцу и матери. Они еще ничего не знали.
— Странно, — сказал отец. — Это дали тебе эти?.. Как их? Киплинги? (Отец знал и любил английскую литературу.)
Но тут он усомнился:
— Они же не станут есть такой хлеб. Нет, нет. Постой, что там в городе? Что произошло?
Отец и мать стали расспрашивать, откуда у меня этот хлеб, и я рассказывал, торопясь, захлебываясь, и никак не мог объяснить, что же случилось в одну короткую ночь, и они разводили руками, изумлялись, не верили, а я все говорил, говорил, пытаясь объяснить, передать, какие усталые эти русские солдаты и как холодно, совсем уж некрасиво одеты и, наверное, живут голоднее всех нас, а вот отдали свой хлеб нам, ребятам.
Неожиданно вкусный хлеб с мякиной...
— Хлеб победы, — сказал отец задумчиво и удивлено.
Почему он удивился? Это я понял позже.
Да, так вот — хлеб победы.
В тот же вечер произошло нечто страшное и в то же время утвердившее в нас веру в справедливость людей революции.
Мы жили в доме, принадлежавшем едва ли не крупнейшему в губернии богатею — промышленнику Кыркалову, которого знал и ненавидел весь Архангельск. Поздно вечером к нам пришли насупленные, налитые гневом красноармейцы, схватили отца, растерянного, ничего не понимавшего, взяли его за ворот, заперлись с ним в одной из комнат, угрожали винтовками, припоминая зверства Кыркалова, обиды, которые причинил заводчик.
Они собирались расправиться с отцом, убить, в яростном исступлении принимая его за Кыркалова-душегуба.
И уже ничего нельзя было сделать, такой ненавистью были налиты красноармейцы, немыслимо было пробиться сквозь эту ненависть и объяснить, что они грозят смертью не Кыркалову, сбежавшему с интервентами, а его соседу, простому учителю. Ничего нельзя было сделать, нам не верили, и мать плакала, беспомощно металась, причитала, и в страхе, что отца убьют, я выбежал за помощью на улицу.
Была ночь, улицы давно опустели, и только наряд краснофлотцев, на мое счастье, проходил мимо нашего дома.
То была первая ночь после освобождения города, еще было тревожно, глухо, опасность еще висела над Архангельском.
Но матросы пошли за мной, и, хотя конечно же красноармейцы были роднее им и ближе, нежели неизвестный горожанин, онемевший под наведенными на него стволами винтовок, они все же разобрались во всем и выдворили ослепленных ненавистью мстителей. Они попрощались, посоветовав запереть на ночь входную дверь, пожелали нам спокойной ночи — спокойной в полном смысле этого слова — и удалились, такие же серьезные, сдержанные, помнится мне, настороженные, какими я видел их в ночном дозоре и в столкновении со слепой яростью нежданных наших гостей.
Страшное обернулось добрым и потому — непонятным.
Я, изумленный и восторженный, и все же, как все мои сверстники, недоверчивый к доброму, не мог понять: что же это было? Чудо? Случайная, небрежная прихоть моряков, которых в только что отбитом городе конечно же поджидали более серьезные происшествия и опасности?
Что еще?
Только забота о порядке в городе?
Может быть, та же пренебрежительная щедрость, с которой в день вторжения в Архангельск солдаты и матросы Антанты швыряли нам «бишки» — каменно-твердые галеты, припасенные для войны в Африке и для завоевания русского Севера?.. Но даже мы, мальчишки и девчонки, ничего не смыслившие в политике, все же чувствовали разницу между подачкой, брошенной завоевателями от непомерной их сытости, и тем скудным черным хлебом, которым не угощали нас, а делились с нами полуголодные, замерзшие бойцы 6‑й нашей армии.
Интервенция! Она перед моими глазами.
Среди многочисленного англосаксонского воинства затерялись общительные французы в светло-голубой форме, был даже небольшой отряд славян — сербов.
Вот сколько их было всяких.
А какие у них были парады!
Шотландцы шли с волынщиками впереди. Щеки у волынщиков раздувались. Не оборачиваясь, виртуозно жонглировал своим длинным жезлом тамбурмажор, дирижер, что ли. На острие жезла колыхалось нечто вроде хоругви. Жезл повелевал. Жезл гипнотизировал волынщиков. Жезл пленял, покорял уличных зевак, сводил с ума архангелогородских барышень из приличных семейств и их чувствительных мамаш, принадлежавших к местной элите бакалейщиков, старших приказчиков или акцизных чиновников.
Нет, право же, эти парады были неподражаемы.
Отличная песня. Веселая песня. Задорная песня. Я до сих пор ее помню.
Длинен путь
До Типперери,
Далеко идти...
Английские «томми» пели ее когда-то в Индии, пели в Африке, — где только не пели ее солдаты колонизаторов! Полстолетия назад они решили спеть ее и в нашем Архангельске.
Хорошая песня.
Так отчего же, черт возьми, именно там на моих глазах пошли прахом и этот как будто веселый задор, и вся эта немыслимая «красота» парадов, драк в сквере, галифе и френчей?
Как могли сгинуть в одну ночь отлично вооруженные и экипированные, поддержанные еще и своим флотом войска Антанты под натиском бедно и разношерстно одетых и уж никак не сытых бойцов 6‑й армии Советов?
Ответить на этот вопрос теперь просто: достаточно перелистать страницы истории гражданской войны, но мне хочется вспомнить, как тот же, в общем, ответ складывался тогда у меня, четырнадцатилетнего гимназиста.
...Помню, Февральская революция 1917 года не произвела на меня большого впечатления. То есть конечно же поражало то обстоятельство, что Россия теперь без царя, без Распутина и всего, что с ним было связано (краем уха и я кое-что слышал об этом), без полиции и жандармов и т. д. и т. п.
Ну а дальше?
О том, что же будет дальше, даже отец, наивысший для меня авторитет, не мог сказать ничего, — он не был ни политиком, ни революционером. После тюрьмы 1905 года жил столь же неопределенными ожиданиями, как многие русские интеллигенты. Для них святыми оставались понятия «конституция», признаться, весьма туманное; «парламент», подозрительно смахивавший на английский; «революция», жившая в их сознании как родная сестра Великой французской революции 1789 года, с такими героями, как даже не обличитель крупной буржуазии «неистовый» Марат или «неподкупный» Робеспьер, а скорее «либерал», ставленник дворян и собственников Мирабо.
Словом, и отец не мог помочь мне понять, что же будет дальше после того, как Россия наконец-то свергла царя.
Но вот что меня удивляло, что я и сегодня ощущаю как отзвук тогдашних детских раздумий: Февральская революция почти ничего не изменила в окружавших меня людях. О, как хотелось тогда встретить где-нибудь на Петроградском проспекте, или на Кузнечихе, или в Соломбале нового Марата или Робеспьера, которые хоть как-то отличались бы от привычных обитателей архангельских улиц — владельцев лавок, их конторщиков, преданных своим повелителям, лесопромышленников-миллионеров, торговавших аж с самой Европой, предприимчивых кустарей, сумевших растолкать своих конкурентов и обзавестись собственным «делом», собственной парадной вывеской и солидной репутацией негоциантов!
После февраля 1917 года эта публика по-прежнему задавала тон в городе, кишмя кишела на площадях, гуляньях, в скверике рядом с собором, где по вечерам коротала время архангельская «знать», даже на митингах, поражавших и нас, мальчишек, пышным и ровно ничего не значившим словоизвержением. Впрочем, все они, видимо, мечтали о своем Бонапарте (северный Бонапарт явился позже в обличье российского генерала Миллера, задавшего затем лататы вместе с такими высокими покровителями, как британский командующий генерал Пул и сменивший его генерал Айронсайд).
Да, на мой тогдашний взгляд, мало что изменилось в людях после свалившей царя революции. Те же скучные будничные заботы обывателей, то же преклонение перед собственным брюхом, те же мечты о фантастической карьере в передней у воротилы-заводчика Кыркалова или о волшебном наследстве, свалившемся неизвестно почему и неизвестно откуда.
Вкусы и чаяния обывателей помельче определялись интересами, заимствованными у таких «властителей дум», как тот же богатей Кыркалов (что это была за птица, я знал по собственному опыту: мальчишкой работал у него на тереблении льна и хлебнул горя от его скорых на руку надсмотрщиков; лен, конечно, был для Кыркалова мелочишкой, ему принадлежали чуть ли не все лесозаводы губернии и добрый кус дивных, бесконечных лесов этого края. Может, я преувеличиваю, но мне тогда казалось, что Кыркалов — это нечто вроде Ротшильда или Рокфеллера).
Где же, в чем же все-таки революция, думал я (или теперь мне кажется, что я так думал), глядя на воротил-толстосумов и молившихся на них горожан-обывателей.
Потом пришел октябрь 1917 года.
И даже я, мальчишка, вскоре почувствовал: что-то изменилось. Многое изменилось. И — что было понятнее всего, виднее всего обыкновеннейшему третьекласснику — изменились люди. Вернее, многие из них. Закоренелые, заскорузлые скопидомы остались прежними, но откуда-то возникли другие, совсем на них не похожие хозяева города, — не было в них трусливого обывательского ожидания удачи или счастья, они знали, чего хотят, чего добиваются (не только для себя), не очень-то тратили время на митинговое словоизвержение, зато уверенно, властно и, чувствовалось, по праву устанавливали в Архангельске свой порядок. Не только «муниципальный», что ли, порядок, но самый порядок жизни, действия, движения в будущее.
— Кто они, эти люди? — спрашивал я у отца.
— Большевики, — отвечал он коротко.
Пока это мне еще ни о чем не говорило.
— Откуда они?