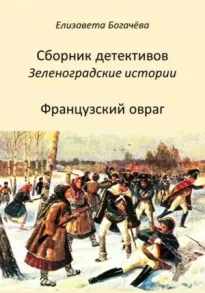Агами

- Автор: Алексей Федяров
- Жанр: Социально-философская фантастика
- Дата выхода: 2020
Читать книгу "Агами"
Глава 10. Глаза смотрящего
В ШИЗО играл шансон. Громко. Шансон Паше Старому не нравился никогда. Очень его одно время любили блатные, хоть на радио, хоть в ресторанах, хоть по телевизору. И певцов много появилось, как на подбор — или мордатые, будто отожранные годами на водке и сале, или тощие, как доходяги с этапа. Хриплые голоса обязательно. Песни пели или жалостливые, или безжалостные, других не водилось. Девки разбитные рядом обязательно. Только всё это не настоящим, не людским казалось Паше. Сверху они слова брали для песен своих, глубоко не ныряли и сути человеческой не видели. Но братве нравилось, особенно тем, кто соли тюремной не напробовался, а только блата нахватался и решил этой романтикой пожить. Только нет в неволе романтики совсем. Тоска одна. И песни про тюрьму тоскливые должны быть, только не сочинял таких никто и не сочиняет.
Но вот кто любил такое, так это вертухаи и менты, хоть настоящие, хоть много лет как бывшие. Дима-Чума в бараке часами мог петь, если не остановить. И старое, про Владимирский централ, и новое, про «кластер пять с тремя нулями» и этап на Печору — северную каторгу. И долговязый этот Дима, что ментом побыл и крадуном, Печору сейчас топтал. За последнее власть с него спросила и срок отмерила, а за ментовскую жизнь никто спрашивать не стал, не до того оказалось всем.
Паша выдернул его к себе и поговорил было для порядка, да уж больно складно отвечал Чума.
— Был, не скрою, ментом был и сажал, так ведь за дело. И остался бы ментом, если б не скурился и времена прежние стояли. Так ведь смешалось всё, Старый, сам же видел, — говорил Чума, попивая чай и заедая его конфетой. — А как перед Конвенцией дела пошли, помнишь? До того были воры и были менты. Вор в тюрьме сидит и иногда пожить выходит, у него ничего, кроме наколок, нет, ни кола и ни двора. Живёт на грев людской. Мент до пенсии доработает и такой же — квартирка и дача. Голый, только пенсия. Тот же грев. А потом что стало? Чей дом самый богатый в городишке? Не торговца с рынка этот дом. Прокурор, главный мент, вор или депутат в нём живёт. Чьи дети при должности? Не отличник, сынок училки школьной судьёй стал, а сын прокурора или мэра. Стоял завод десять лет, пришли менты, отняли, хозяина посадили, сами хозяевами стали, а потом чекисты пришли, а потом чекисты повыше. И все в один винегрет закрутились, Паша. Менты, воры, чекисты — все по одним понятиям стали жить.
— Не понятия это, — жёстко прервал Паша.
— Это тебе не понятия, — не смутился Дима, — старому блатному это не по понятиям — так жить, а для них — самое то. Потому ты никому не нужен стал, ни ментам новым, ни ворам, что тебе на смену пришли.
— Ну и где они сейчас? — усмехнулся Паша. — Где? Всех смело новой властью. Постреляли, посажали, кого на воле, кого здесь, а кого там, куда уехать дали. Все ж думали, что им уехать дадут. Кому-то и позволили. Уехать позволили, а вот жить — это другой вопрос. Этап на Печору, он же знаешь, и из Лондона имеется. А Нарьян-Мар всегда ближе, чем ты подумать можешь.
Паша Старый говорил размеренно, попивая крепкий чай и потягивая сигарету. Всё как положено. Суетиться в разговоре ни к чему.
Дима рассмеялся.
— Благодарен я тебе, Паша, что принял на зоне, прошлым не попрекаешь. Что песни петь даёшь, которые тебе не нравятся. Вижу ведь, что кривишься. Тебе же про кровь на рукаве нравится и про последнего героя. Ты ж сам такой. Из последних. Но и сам живёшь, и людям даёшь — и тем, кто про белого лебедя на пруду поют, и тем, кто про лыжи у стенки.
Паша посмотрел тогда на него пристально. Сигарету даже отложил в пепельницу.
— Что ты задумал, Чума? — спросил он тихо.
— В рывок пойду, — ещё тише ответил тот, — вот лето наступит, и пойду.
— А как ты Агами пройдёшь? Других-то выходов из тайги нет. Закрыта тайга, тебе ли не знать, колпак над нами, даже не летает никто. Ты же не по лесам печорским шастать намерен. К людям хочешь. Это вон Спира, которого ты обхаживаешь, в лесу родился и туда вернуться во сне видит. А ты же, Чума, с гвоздём в жопе, ты без людей не можешь. Тебе и воровать надо, и бабу, и песни попеть.
Паша уже шептал, наклонившись к самому уху Димы.
— Слышал я, что есть у тебя проход через Агами, — просто ответил Дима.
— А у тебя? — нехорошо улыбнулся Паша.
— У меня нет, но если ты поможешь, будет.
— А зачем мне это?
— Раз ты со мной говоришь ещё, значит чем-то и сгожусь. Дерзких людей, кто пойдёт через проход, мало. Я пойду. Спира доведёт и останется, ему в лесу хорошо, а я пойду, мне к людям надо. И передам, если что надо будет от тебя. Тебе же всегда что-то кому-то надо передать. Слова или вещь какую.
— Кому?
— Кому скажешь. Передам и уйду, даст Бог, не услышишь обо мне больше. В расчёте будем.
Умён был Дима-Чума, ох умён. Вечером того дня Паша Старый остановился у комнаты, где он сидел на своей шконке, пел и играл на гитаре, которую выторговал у кума:
И эта ночь и её электрический свет
Бьёт мне в глаза.
И эта ночь и её электрический свет
Бьёт мне в окно.
И эта ночь и её электрический голос
Манит меня к себе.
И я не знаю, как мне прожить
Следующий день.
Для Паши играл. Тот любил этого Цоя — корейца, который умер в год, когда Паша чуть не сел первый раз. Из-за драки на ножах с пацанами из соседнего района, куда он с корешами заглянул неудачно. Один из тех, с кем резались тогда молча, рыча по-волчьи, насмерть, чуть было не помер в больнице. Кто-то воткнул нож в бок, а кто — и не поймёшь в свалке. Может, и Паша, как говорили ему менты, которые повязали его тогда, малолетнего.
Но пацан оказался честным, не сдал никого, когда пришёл в себя, только молча хмурил лоб и втягивал голову в плечи от затрещин на допросах сначала в больничной палате, а потом в ментовском кабинете. Оба сели позже, и Паша, и тот пацан, оба вышли, только Паша снова сел и ещё не раз отсидел, а потом стал Пашей Старым, а тот парень нашёл смерть на кровавой стрелке, до второй отсидки не дожив.
В каптёрке Паша даже повесил портрет Цоя. Нарисовал его художник из Питера Сеня Васильев, старый арестант, что получил свой бэкграунд сразу после Конвенции и много где посидел, знал, как бывает. Оттого Печорской каторге радовался — бьют редко, убивать перестали почти, письма писать можно и получать сколько хочешь. И писал, и получал, Паше это было удивительно. Столько сидит, а всё кому-то нужен.
— Из какого ж ты Питера, нет давно такого города! Главная северо-западная агломерация там и городов за полсотни. А Питера нет, — усмехаясь, незлобно спросил Паша художника, когда тот при знакомстве ответил, откуда он.
Сеня не смутился вовсе, стоял, улыбался. Волосы седые топорщились коротким ёжиком.
— Меня из Питера забирали, значит, я из Питера. Меня же в агломерацию не пустят никогда ни в никакую. Откуда мне остаётся быть? Так и буду питерским.
— А Цоя можешь нарисовать? — развеселился Паша.
— Вспомню, нарисую. Молод был я совсем, когда видел.
— Кого видел? — недоверчиво спросил Паша.
— Витю. Бегал же по его концертам. Все бегали, — серьёзно ответил художник.
Паша задумался тогда.
— Вот же жизнь, — сказал он Сене, угостив сигаретой, которую тот сразу и раскурил, — я тогда ствол первый отстреливал на пустыре, а ты на концерты бегал и картины рисовать учился. А жизнь доживать сюда прибыли.
— Сгорел лес, ветер гуляет над огневищем, пепел собирает по ложбинам, поковыряйся в нём — и не такое сыщешь, — ответил художник, улыбаясь хорошему табаку.
И сыскалось, такое сыскалось, какое и ожидать можно, только чуть не померши от безнадёги. Найти и прятать пуще, чем зеркальце, от шмонов на омской зоне и этапах лютых, потому как такое и найти, и потерять можно только раз. Не найдя, прожить можно, а вот потеряв — никакой возможности.
Учёный этот нашёлся среди людского сброда нового южного этапа случайно. Блаженный, каких на каждой зоне встретишь, ходил неприкаянный и непристроенный, шептал что-то, будто молитву, но не молитву. Люди от таких не шарахаются — безобидный совсем, но жить бы ему недолго в печорской зиме среди тайги.
Художник помог. Он принёс тогда портрет заказанный: Цой с гитарой на сцене в белом жабо — совсем не такой, каким потом его на плакатах рисовали, не с прищуром суровым, а молоденький и тонкий. Потом художник рассказал, что это он такой был на первом концерте в ленинградском рок-клубе, да и в жизни был такой, вовсе не героический.
— Хороший был парень, — кратко пояснил Сеня, видя взгляд Паши и его вздёрнутые брови.
— Ты, Питер, погоди пока, этап пришёл, надо на людей посмотреть. Посиди тут.
И посадил на табуретку рядом.
— Люди — это хорошо. Это я люблю, — сказал художник. — Сигаретку выдашь?
Паша выдал пачку. Сеня зажмурился и уселся в угол каптёрки. Кот, ну чистый кот над сметаной, подумал Паша. Сейчас закурит и забудет обо всём. Мурчать будет.
Людей приехало много. С карантина их распределили, разбросали по баракам. Везде были Пашины глаза и люди, всё шло своим чередом. К самому Паше в барак привели без малого два десятка. Много. Мужики, блатные, три китайца, два афропечорца, как стали их называть в зоне с чьей-то лёгкой подачи. И Берман. Он будто смотрел сквозь Пашу, и было это неприятно. Старик совсем, но глаза чистые и крепкий, ещё по-вольному крепкий, недавно на каторге. Непонятно, будет в нём крепость тюремная или быстро ослабнет человек от неволи и высохнет. Пальцы длинные, белые. Не работали эти руки топором и кайлом. И лицо почти без морщин, не на земле живёт такой человек, а в мыслях своих. Блаженный. Но чистый, прибранный, и люди злого о нём ничего не принесли. Таких зона впускает и судит позже, «по личности».
— Паша, это ж Берман, — застучал ему сухой ладонью по спине Сеня.
Вскочил, заволновался. Подошёл, руку протянул.
— Я Сеня Васильев, художник, я тоже из Питера, — быстро заговорил он.
Берман, седой и высокий, улыбнулся и руку Сене пожал, на какое-то время даже вроде увидел и каптёрку Пашину, и людей вокруг. И снова ушёл в себя.
Сильный оказался этот тип, старый интеллигент петербуржский. Помирать не собирался. А учёным и вправду оказался настоящим.
— Да ты что, он же от премий отказывался огромных, чего только не наизобретал, а так и жил в своей квартирке! И как он новой власти не сгодился, странное дело. Ладно я, художник безвестный, алкоголик и тунеядец, но Берман… — Сеня вздыхал, смешно обхватывал голову руками и качал ею.
Берман приехал южным этапом. Из самого Нового центра. Зэки оттуда — редкость. Говорить с ним было трудно, пожилой учёный не молчал, он постоянно вёл разговор, но неслышный и не с теми, кто рядом, а с собой, где-то далеко, перед доской в аудитории или перед монитором, или, может быть, за столом, но точно не здесь, не на каторжной земле.
Хотя учёные и тут встречались, разные, кучковались и хотели светило к себе затянуть, но Берман их проигнорировал и подпустил к себе одного только — старого, как выяснилось, знакомца, которого те учёные как раз и не признавали. Если по Пашиному — так и не учёный это был вовсе, электрик Иваныч, пожилой волжанин, молчаливый, лысый и широкий в плечах мужик на мощных ногах.
— Он — великий экспериментатор, — кратко пояснил Берман Паше, когда был в настроении, — учился в университете и работал с большими учёными. Они думали, а он делал. Нельзя без рук учёному.