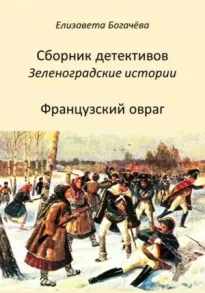Агами

- Автор: Алексей Федяров
- Жанр: Социально-философская фантастика
- Дата выхода: 2020
Читать книгу "Агами"
Глава 20. Холод
— Отвези их, — мрачно проворчал Ибрахим.
Глухая злость не отпускала, грызла изнутри и требовала выхода.
— Куда? — вкрадчиво спросил Гюнтер.
— Туда, где они живут. И проследи, чтобы завтра их не было в этом городе. София попросила дать им сутки.
Ибрахим не обращал внимания на Марию и Анну, которых только что вывел из подъезда. Жара к ночи ушла, вечер грел, но спокойно, без духоты. Девушки слышали разговор, Ибрахима это не стесняло. Пусть слышат. Заслужили. Пусть знают, что он бы и их стёр с лица этого города, как стёр ту женщину-убийцу, что шла сюда уничтожить Софию. Значит, и его. Пусть трясутся и благодарят Софию, что дала им сбежать.
Анну и правда трясло. Она не скрывала страха, сил на это не осталось. Готова была бежать отсюда, куда угодно, куда унесли бы ноги, но и на это сил не хватало тоже. Мария стояла спокойно, изредка переводя взгляд с Ибрахима на Гюнтера. Поглядывала на подругу, и в этом взгляде не было ни усмешки, ни презрения. Жалость, её видел Ибрахим в глазах этой русской девочки.
С такой же жалостью София смотрела на неё саму, когда он повёл девушек с кухни. Она не встала, продолжала сидеть на своём обычном месте, только сдвинула очки почти на темя, подняла брови и замерла, держа руку на отлёте над столом — сигарета между пальцами. Насмешка — Анне, жалость — Марии.
И отвернулась к Виктории. Улыбнулась. Хорошо улыбнулась, долго будут говорить.
— Будет сделано, — ответил Гюнтер.
— Возвращайся, — буркнул Ибрахим.
Мать рассказывала, что родила его в камере следственного изолятора. Рассказывала, как принимала роды цыганка-наркодилер, а ассистировала ей кандидат медицинских наук, мошенница, которая знала всё и умела принимать роды в больнице. Цыганка с трудом читала, но умела принимать роды везде. Как грели воду кипятильниками и резали пуповину лезвием, которое добыли, разобрав безопасную бритву. Как старшая по камере, чеченка, кричала на вертухаев и грозила им смертными карами. Женщины в засаленных мундирах смотрели в кормушку в двери и хохотали. Чеченку арестовали за убийство бандита, который хотел изнасиловать её и даже приставил к лицу нож, но не подумал, что нож есть и у неё. Она бы убила и тех, кто смеялся тогда, мать в этом была уверена, но убивать было нечем, и дверь камеры они не открыли.
Мать родилась и жила в Москве, ей повезло с работой в крупном немецком инвестиционном фонде, функционировавшем в России два десятка лет, а потом купившем акции большой компании, не посчитавшись с тем, что покупатель был определён задолго и «лезть» в сделку было нельзя. После этого всё завертелось быстро. Уголовное дело, арест топ-менеджеров, что не успели разъехаться… А матери и уезжать было некуда. Не собиралась и не готовилась.
Глава фонда, тот, от которого она была беременна, уехал домой, в Берлин, за пару дней до событий — заболела его мать. И обратно не вернулся, нельзя было. Положил все силы, чтобы вытащить маму из тюрьмы, и вытащил, когда Гюнтеру исполнилось пять лет. Его должны были вот-вот у неё отнять и отдать из русской тюрьмы, кроме которой он не знал ничего, в место действительно страшное — в русский детский дом. От тюрьмы у Гюнтера осталось в памяти смутное — лязг ключей и замков, вековая вонь камер и коридоров, а ещё то, что есть люди хорошие — их немного среди тех, кто в клетке, а есть плохие — они запирают клетки снаружи, а иногда заходят внутрь, когда хотят кого-то увести или избить.
Когда подписали указ о помиловании матери, их выгнали из страны на самолёте, который зафрахтовал отец. Мама плакала, сидя в удобном кресле бизнес-джета и обнимая сына. «Улетаем из этой клетки, наконец-то мы улетаем», — шептала она.
Взрослея, Гюнтер много думал о том, что те женщины-вертухаи, чьи лица с многослойными глазами он не забудет никогда, тоже жили в клетке и остались в ней. Они не могут по-другому, иначе зачем жить в большой клетке самим и сажать в клетки поменьше других? И сегодня в парке то почти забытое смутное захолодило внутри, когда шёл к Лиде с протянутой рукой, в которой лежал значок. Это была одна из тех женщин, что смеялись, когда мама рожала на простыне, брошенной на тюремную шконку. Даже если её не было там и смеялась тогда не она. Даже если она тогда только родилась.
Эта женщина приехала убить хорошего человека, которого не смогла забрать в свою тюрьму. Они умеют убивать, и не только внутри своей клетки, это известно, но Лида больше никого не убьёт. Гюнтер вспомнил, как раскрылся рот Лиды, когда в печень, а потом в сердце её вошла сталь, как она хотела вздохнуть и не смогла, когда Яков Большой убрал свою широкую ладонь с её рта, хотела ударить его, но не смогла. Как хотела хоть что-то смочь, но жизнь ушла из её тела, как когда-то уходила из тех, кого убивала она.
Гюнтеру не было жаль её.
— Маме надо позвонить завтра, — проговорил он вслух по-русски.
Тихо сказал, но девушки услышали. Он сидел за рулём своего седана, Анна и Мария — сзади, их можно было не опасаться больше. Да и Яков Большой сидел рядом и посматривал назад так, что в машине становилось холодней. Большие руки его лежали свободно на коленях. Яша чисто сделал сегодня дело и ждал конца рабочего дня, чтобы выпить бутылку шнапса. Имеет право. Гюнтер, если больше заданий не будет, присоединится.
Яков тоже из рождённых в русской тюрьме, его мать — немку, студентку Литературного института и в будущем большую писательницу — арестовали в аэропорту. Молоденькая совсем девочка, летела с Гоа с парнем своим, транзитом через московский аэропорт. Забыла в кармане немного марихуаны, которая много где уже была легализована тогда, но в России за это беременная мама его отхватила срок — девять лет. Там и родила сына.
Яша учился говорить по-немецки у мамы и по-русски у тех, кто рядом. Оттого по-немецки говорил красиво и литературно, а по-русски тоже красиво, но на блатном языке. Даже ходил как урка из фильмов — развязно и вразвалку. Там, в России, за решёткой, мамы Гюнтера и Якова и подружились, там же познакомились и они сами, но не помнили этого по малолетству, хотя освободились их матери в один год. И Гюнтер с Яковом освободились, так получается, хоть и не судимы были. Власти в то время выцеживали иногда помилования, уж очень надо было хоть какие-то отношения с «европейскими партнерами» сохранить. Повезло некоторым сидельцам. Большинству — нет.
— У меня нет мамы, — тихо сказала Мария.
— Это хорошо, — безжалостно проговорил Гюнтер, — не увидит, кем ты стала. Приехали. Выходите.
— Зачем ты их отпустила? — глухо спросил Ибрахим.
Он сел за стол напротив Софии, закурил. Говорил, не обращая внимания на Викторию Марковну, которая сидела рядом и замолчала при его появлении, как не обращал внимания за четверть часа до того на Анну и Марию.
— Чуйка, дорогой. Не нужно нам лишнего. Пусть уезжают.
И снова брови подняты, глаза улыбаются.
— Вернуться могут…
Ибрахим начал успокаиваться. Тяжёлый день заканчивался.
— Не вернутся, — вдруг произнесла Виктория Марковна.
— Не вернутся, — вздохнул Ибрахим. — Налей мне вашего самогона, дорогая.
— Вот. Правильно, — София наставительно подняла указательный палец. — А то всё виски, виски. Но виски есть.
— Самогона, жена моя, самогона.
Виктория Марковна засмеялась. Ибрахим посмотрел на неё угрюмо. Потом улыбнулся.
— Сколько тебе ещё даст Аллах, Виктория? — вдруг спросил он.
Виктория Марковна замерла. Выдохнула сигаретный дым.
— Хочу об этом думать и боюсь, Ибрахим. Не о том, сколько мне осталось. О том, что потом. Я жила свои годы, которых было много впереди, и знала, что потом ничего не будет, пустота. Сейчас я доживаю каждый день как последний, и мне страшно, как я буду потом. Когда шесть лет назад сменила лицо и стала тем, кто я есть сейчас, когда отрезала всё, что сделала, то успокаивала себя: так бывает, так делают.
Помнишь таких незадолго до Конвенции? Когда стало совсем тяжко, некоторые уходили от нас и шли работать к тому, кто казался вечным, на его телеканалы и радио, в его газеты. А он оказался не вечным, оказался голым, слабым и пустым. Он давал им что-то, конечно, некоторым даже многое давал, но всё это было отравлено, этого нельзя было брать, даже трогать было нельзя. А потом они не знали, что с полученным делать, я видела это, и некоторых мне было даже жаль. Но пришло время, и вдруг взяла сама. Не думала брать, а взяла. И всё сразу забылось, даже Сонька меня чуть не задушила прошлый раз. Твоими руками, кстати, Ибрахим. Я спасать её приехала, но она хотела меня задушить и имела право…
— Себя ты спасать приехала, Виктория, — прервал её Ибрахим. — И за брата отомстить.
— Выпьем? — София разлила по рюмкам самогон. — До Конвенции ругались, после ругались, в Москве что-то делили, сейчас собрались — и давай разбираться, кто виноват. Пока ругались и делили, ничего не осталось, дорогие мои. Ничего.
Закурила сигарету.
Сидели и молчали. Долго. Холод ел изнутри, Маша поняла, что теперь он съест её всю и ничего не оставит. Ничто живое не могло ему противиться, ничто живое, что казалось вечным: нельзя, чтобы такое — и вдруг не навечно. Первый снег и красные ягоды рябины в холодном лесу, мама, которой не видела и не увидит. Стас. Всё это было бессильно помочь сейчас, холод начинался с кончиков пальцев на руках, он родился от слов Софии про человечину, которую она полюбила, и рос, рос весь недолгий разговор на маленькой берлинской кухне, а потом стал превращаться в ужас, от которого немели колени и останавливался взгляд.
«Это хорошо, не увидит, кем ты стала», — сказал Гюнтер про её маму. Про то, что её нет. И Маша сразу поверила в это, невозможно было не поверить. Мама исчезла в первых волнах переселения в кластеры, мама уничтожена теми, с кем сейчас её дочь, теми, кто тоже любит и всегда любил человечину.
Анна тоже молчала. Сидела, обхватив голову руками и упершись локтями в стол. Рыжие волосы струились сквозь пальцы и падали на локти.
— Прости меня, — не своим голосом, низко и почти неслышно проговорила она. И уже совсем шёпотом: — Я же предала тебя. Я была готова оставить тебя там, помочь этим людям тебя убить, только бы меня оттуда выпустили, меня одну, чтобы я уехала домой. Я хочу домой.
— Уезжай, — просто ответила Маша.
Не могла она в этот момент сопереживать никому в мире, и Анне не могла. Даже себе не могла, хотя очень хотела себя пожалеть, чтобы соломинку найти, удержаться на плаву — ведь как-то же она объяснила себе тогда, ещё совсем недавно и так давно, почему пришла сюда — туда, где нужно любить человечину и радоваться, что мама не видит тебя сейчас. Как, какими словами и мыслями нужно было себя обмануть, чтобы оправдать такое, чтобы называть это «спецоперацией»? Чем провинилась та, что уехала от тюрьмы и не вернулась, потому что тюрьма не забыла о ней и ждала? Чем вообще может провиниться человек, который говорит правду? Да, злую и жестокую правду, но так ведь и нет другой, давно уже нет. Да и была ли когда-то правда в тех краях, откуда приехала Маша и куда ей надо будет завтра возвращаться?..
Завибрировал коммуникатор. Звонили из Нового центра. Не ко времени и не по плану — звонить должна была Маша и по возможности. Либо, если не позвонит, завтра в условном месте её должен был ожидать связной. Думать о том, что могло что-то произойти, не хотелось. Не сейчас. Хватит на сегодня.