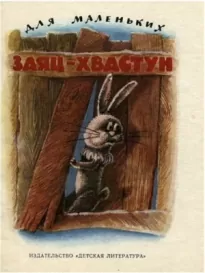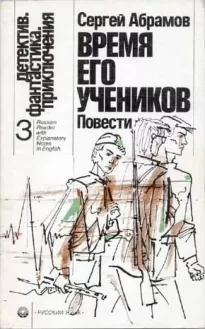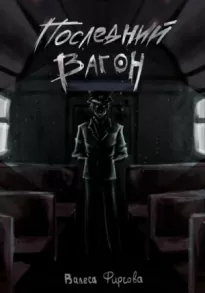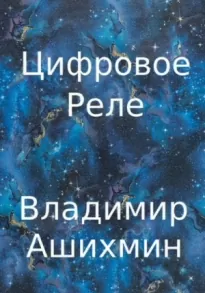Моя служба в старой гвардии. Война и мир офицера Семеновского полка. 1905–1917
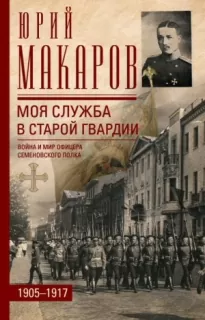
- Автор: Юрий Макаров
- Жанр: Биографии и Мемуары
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Моя служба в старой гвардии. Война и мир офицера Семеновского полка. 1905–1917"
По закону ротою выбирался «артельщик», один из унтер-офицеров, который и служил связующим звеном между хозяйственной частью и полковыми кухнями, находившимися сразу же при резерве. У артельщика находились в подчинении кухни, два кашевара, ротная повозка, всего пять нестроевых чинов и четыре лошади. Ротные суммы для довольствия, обыкновенно не больше 500—1000 рублей, хранились на руках у ротного командира и обыкновенно носились на груди, под кителем, в холщовом конверте, зашпиленном английской булавкой. Я лично этот мешочек носил на груди и в резерве, и в походе, и в окопах. Перед боями же, на всякий пожарный случай, вешал его на шею Смурову, который в бои не ходил, сообщая для осторожности, сколько именно в нем денег, батальонному командиру и еще двум-трем офицерам. Мои собственные деньги всегда держал Смуров.
Такой же мешочек, размером побольше, висел на шее у батальонного командира, от которого мы, ротные, и получали деньги по мере надобности.
Раз в четыре, в пять дней являлся артельщик, приносил для подписи «требования» в хозяйственную часть и забирал по 150, по 200 рублей.
Отчетность была «полевая», то есть самая упрощенная. Особые на каждый случай книжки с отрывными листами. Писалось все в трех экземплярах с копиркой, один оставался при корешке, два шли в хозяйственную часть. При получении новых книжек старые корешки сдавались туда же. Все писалось чернильным карандашом, смачивавшимся по преимуществу собственной слюной.
Спрашивается, крали артельщики или нет? Возможно, что, ворочая большими деньгами, соблазнялись и что-нибудь у них к рукам и прилипало, но, во всяком случае, какая-нибудь мелочь, даже не десятки, а рубли, так как хозяйственная часть, старшее начальство которой было вне подозрений, следила за ними внимательно. Мы, ротные командиры, проверять их были решительно не в состоянии. Как пример скажу, что за все время моего командования ротой мне в обозе 2-го разряда и в хозяйственной части не довелось быть ни одного раза. Против артельщиков у нас было другое оружие. Всегда можно было снестись с хозяйственной частью по телефону. Начальник хозяйственной части, один из наших старших штаб-офицеров, часто приезжал в штаб и бывал в собрании. Наконец, мы очень внимательно следили за качеством пищи, постоянно пробуя, а часто просто обедая и ужиная из котла. И если что-нибудь было не очень вкусно, то в присутствии фельдфебеля и другого начальства артельщику производился жестокий влет, с указанием, что если это еще раз повторится, то он будет сменен и пойдет в строй. Строя эта хозяйственная публика не любила и боялась, а потому все артельщики буквально лезли из кожи. Общая тенденция была такая, что «хозяйственные» служат «строевым», а если плохо служат, то можно и поменяться ролями…
Кстати, о провинившихся. Статья устава, которую все воинские чины должны были знать наизусть и которая определяла права и обязанности «начальника», кончалась тем, что начальник обязан «не оставлять проступков и упущений подчиненных без взыскания».
Отвечая [на занятиях] эту статью, молодые солдаты часто пропускали слова «проступков и упущений», и выходило так, что начальник «обязан не оставлять подчиненных без взыскания», что не совсем то же самое.
В мирное время взыскания существовали такие: замечания и выговоры; постановка под ружье, с полной выкладкой в ранце, на два часа и больше, но за раз не более, чем на два часа; назначение не в очередь на работы и в наряды, на дежурства и дневальства; воспрещение отлучки со двора; арест при полковой гауптвахте; и, наконец, отдача под военный суд.
Телесные наказания для полноправных воинских чинов были уничтожены еще при Александре II. Рукоприкладством в мое время совершенно не занимались, даже унтер-офицеры и фельдфебели, не говоря уж об офицерах. За этим следили очень строго.
В петербургских казармах, – за исключением учебной команды, где будущим унтер-офицерам, как в юнкерских училищах, сознательно «поддавали живца» и «грели» за всякую мелочь, – наказания были сравнительно редки. Происходило это главным образом потому, что весь неспокойный элемент, буйные во хмелю и «самовольно-отлучники», потихоньку сплавлялись фельдфебелем и ротным командиром в многочисленные командировки, и таким образом, незаметно из рот исчезали.
Но, хотя и редко применявшаяся, вся эта шкала взысканий в мирное время все же существовала и теоретически, и практически.
На войне она существовала только теоретически. Во-первых, нравственная сторона вопроса. Казарма – это школа, а в школе совсем без наказаний не обойдешься. Война – дело серьезное, защита Отечества. А с защитника Отечества, который завтра сознательно пойдет под пули, не всегда уместно взыскивать со всей строгостью дисциплинарного устава за всякие мелкие служебные упущения. Казарменная дисциплина на войне неминуемо падает. Еще император Александр I говорил, что ничто не «портит» так войска, как война…
Но если бы даже нашелся такой строгий последователь устава, то все равно 4/5 всех взысканий ему пришлось бы из обихода исключить, хотя бы только потому, что на войне они абсолютно не применимы.
Назначение не в очередь на работы невозможно, так как когда бывали работы, то работали все. Дневальные и дежурные назначались только в мирной обстановке, где-нибудь далеко в тылу. Нельзя поставить «под ружье» человека, который только что прошел 35 верст и которому завтра предстоит пройти столько же. Нельзя ставить «под ружье»
и в окопах. В узком окопе такой часовой с винтовкой на плече будет мешать всем двигаться. И при обстреле, когда все неминуемо и совершенно законно применяются к местности, его могут зря убить.
Писали, что будто бы в Турецкую войну Скобелев ставил провинившихся на бруствер. Надо полагать, что это вранье. Или турки так плохо стреляли, что это было совершенно безопасно.
В Великую войну при оптических прицелах, в расстоянии 400–500 шагов линии от линии, не то что голову над бруствером выставить было невозможно, но открывать вершковое отверстие стального щита в бойнице без нужды не рекомендовалось. Сию же секунду влепят. Часовые наблюдали за неприятелем в перископы, которые зачастую простреливались или разбивались в щепки.
Наконец, подвергание человека сознательно лишней, большей против других опасности в деле наказания – с военной точки зрения совершенно аморально. Если нравственно возможно за провинность послать человека в особо опасное место, то так же возможно за хорошее поведение освободить другого человека от участия в атаке. Тогда самый главный и самый ценный принцип – равенства всех перед опасностью – пойдет к черту, и война превратится в каторжную работу, где начальство в зависимости от поведения распределяет «уроки», в данном случае шансы остаться и живых.
Что насильственным приемом лишней дозы опасности можно лечить трусость – это вздор. Сегодня ночью два солдата со страху убежали из секрета. Пошлите их одних завтра в наказание в то же место, и они или опять убегут, или будут всю ночь от ужаса щелкать зубами и при малейшей к тому возможности сдадутся в плен.
Для лечения трусости, когда это возможно, есть другие способы и методы, но отнюдь не в виде наказания.
Какие же еще были «взыскания» мирного времени? Без увольнения со двора и арест.
Вся действующая армия была наказана без увольнения со двора, вплоть до окончания войны, отпуска или эвакуации. Что же касается ареста, то если бы ввести такую меру наказания и из окопов посылать в далекий тыл в обоз 2-го разряда для содержания под арестом при денежном ящике, то количество проступков, пожалуй, сразу бы увеличилось. Желающие, наверное, бы нашлись. Теоретически существовало разжалование, но это только для тех, кого было из чего разжаловать.
Таким образом, из всей гаммы мер воздействия мирного времени на войне остались только две. Самая легкая и самая тяжелая: влеты и разносы и отдача под военно-полевой суд.
У нас, к счастью, проступки были все маловажные. Главным образом против чистоты и опрятности. Преимущественно отправление своих нужд в неположенных местах. С этим мы, офицеры, боролись не покладая рук. В таких случаях разносы были торжественные и публичные. Строилась рота, и виновные вызывались перед строем. Держались речи приблизительно в таких тонах:
– Такой-то и такой-то сделали то-то. Сколько раз вам нужно повторять, что когда на маленьком пространстве собрано 3000 здоровых жеребцов, и каждая свинья будет гадить, где ему нравится, то получится не гвардейский полк, а нужник! Поймите вы, наконец, что помимо грязи и свинства, от этого идут заразы, болезни, эпидемии… Все мы от этого можем пострадать. Чтобы этого не было, каждый должен друг за другом следить, а не одно начальство, которому за всем не усмотреть. Сейчас отхожие ровики убирают все по очереди. Теперь тех, кто попадется, буду назначать вне очереди. Не умеешь класть свое куда следует – убирай чужое!
Это очень помогало. Получилось даже что-то вроде игры, подстерегать правонарушителей, а потом, видя, как они со смущенным видом чистят и убирают, над ними зубоскалить.
Я сам раз подслушал такой разговор:
– Ой, мне сегодня на уборку идти, чтой-то давно никто не попадался… Кажись, я тебя, Охрименко, за кустом вчера видел. Придется мне сказать взводному, в рассуждение чистоты и хихиены!
– Врешь ты все, когда ты меня видел? Бабушку ты свою видел!.. и т. д.
Проступков против дисциплины на моей памяти не было ни одного. Не бывало и членовредительства. Был лишь один случай самоубийства, в 1915 году, когда мы проходили через Варшаву. Открыть причину не удалось. Молодой полячок. Довольно интеллигентный. Или припадок острой меланхолии, или что-нибудь семейное.
Об отдаче под военно-полевой суд мы, Бог миловал, не слыхали, не только в нашей роте, но и в батальоне, и даже, кажется, во всем полку.
Хочу сказать еще несколько слов о нашем материальном положении на войне. Могу сказать, что единственное время за всю службу в полку, когда я жил на жалованье, это были месяцы, проведенные на войне. Ротный командир со всеми добавочными получал в месяц что-то около 250 рублей. За стол в собрании брали 60 рублей. Кроме того, нам постоянно какие-то деньги «выдавали», то на седла, то на теплую одежду, то еще на что-то… Таким образом, живя весьма широко, с папиросами, с наездами, когда это было можно, в лавочку Гвардейского экономического общества, где забиралось печенье, всякие экстракты для чая и даже вино, широко давая раненым чинам, устраивая всякие состязания с призами, я каждую эвакуацию привозил домой по 200 и больше рублей.
Пропорционально недурно были обставлены и чины. После каждой денежной раздачи, с артельщиком в хозяйственную часть для отправки на военную почту для следования на родину, отправлялись кипы писем, и все с деньгами.