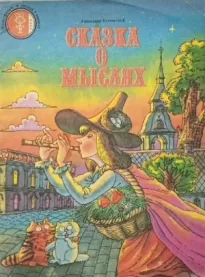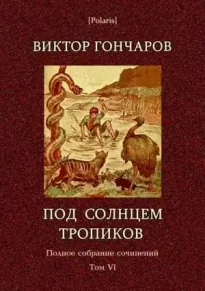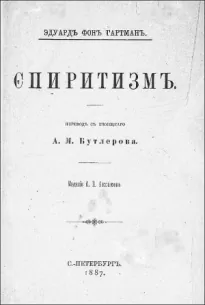Просвещать и карать. Функции цензуры в Российской империи середины XIX века
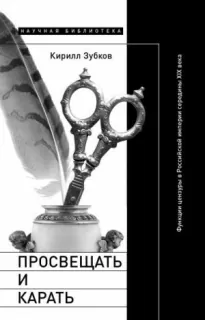
- Автор: Кирилл Зубков
- Жанр: Критика / Литературоведение / Современные российские издания / История России и СССР
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Просвещать и карать. Функции цензуры в Российской империи середины XIX века"
Хотя показанные на сцене события позволяют зрителю усомниться в возможности появления польского Минина, само по себе сопоставление поляков с князем Пожарским, конечно, должно было произвести сильное впечатление, поскольку совершенно подрывало традиционные стереотипы: напомним, согласно общепринятым в России XIX века представлениям, Пожарский героически воевал против польской оккупации и способствовал возникновению российского государства в его современном виде.
Понятый как равное противостояние двух наций, конфликт пьесы Полонского оказался в целом неразрешим. Победы российских войск на поле боя и даже поддержка со стороны местных крестьян не приносят мира героям. Сам Танин воспринимает противоречия между поляками и русскими в целом и между возлюбленной и собою как принципиальный разрыв, грозящий и лично ему, и, возможно, стране в целом:
Вы полька, стало быть, я не могу
Любить вас, потому что вы меня
Любить не можете. — Меж нами бездна,
И в этой бездне я погибну раньше, Чем вы
(Полонский, с. 129).
«Прозрение», постигающее героя в кульминации пьесы, вовсе не разрешает его внутренних конфликтов. Судя по финальному монологу, Танин не понимает, способна ли любовь преодолеть национальные барьеры:
…А что…Что, если и предсмертные слова
В ее устах — насмешка надо мной,
Последний вздох вражды, прикрытой
Коварной лестью, для того чтоб сердце
Мне отравить навеки! Быть не может,
Чтоб этот ксендз ее не причастил!!
(Полонский, с. 256)
За печальной участью главных героев пьесы намечается политическая проблема, впрочем, не проговоренная прямо, — судьба Царства Польского в составе Российской империи. Если восстание в Северо-Западном крае, по Полонскому, не имеет шансов на успех и моральных оснований без поддержки со стороны «народа», то чем можно обосновать подавление восстания на территориях, где большинство населения составляют этнические поляки? Вопрос этот в драме не разрешен, но в его свете становится понятен печальный финал.
Рискованная пьеса Полонского, несмотря на это, могла найти сочувствие не только у Гончарова, но и у других цензоров. Гончаров пытался разрешить произведение Полонского не для постановки на сцене, а для публикации. На страницах «толстого» литературного журнала с драмой могли познакомиться только представители хорошо образованных и состоятельных кругов. Представление о неизбежности катастрофического конфликта между русскими и поляками после 1863 года стало достаточно широко распространено среди такой публики: «…восстание подорвало убежденность многих русских в исторической легитимности господства России в коренных польских землях»[246]. Более того, даже возможность обрусения польских обитателей Северо-Западного края казалась некоторым влиятельным чиновникам очень сомнительной[247]. Среди сомневавшихся в возможностях совместного существования с поляками был и министр Валуев. Он, как и многие журналисты времен Гончарова, был убежден, что по крайней мере на некоторых охваченных восстанием территориях «<к>рестьяне содействуют и хватают мятежников» (Валуев, т. 1, с. 221; запись от 26 апреля 1863 года). Однако в возможность хоть как-то подействовать на самих восставших (не считая прямого насилия) Валуев не верил. По его словам,
Мы все ищем моральной силы, на которую могли бы опереться, и ее не находим. А одною материальной силой побороть нравственных сил нельзя. Несмотря на все гнусности и ложь поляков, на их стороне есть идеи. На нашей — ни одной. В Западном крае и в Царстве повторяются теперь проскрипции древнего Рима времен Мария и Суллы. Это не идея. Мы говорим о владычестве России или православия. Эти идеи для нас, а не для поляков, и мы сами употребляем их название неискренно. Здесь собственно нет речи о России, а речь о самодержце русском, царе польском, конституционном вел. кн. финляндском. Это не идея, а аномалия. Нужна идея, которую мог бы усвоить себе хотя один поляк (Валуев, т. 1, с. 258–259; запись от 6 декабря 1863 года).
Пьеса Полонского, где военная победа над восставшими не приводит к торжеству русских идей, а главный герой пытается найти как раз нравственную силу и убеждения для противостояния полякам, вполне могла понравиться охваченному опасениями министру. Разумеется, тот же Валуев едва ли допустил бы ее постановку и доступ к широкой аудитории, но его собственному настроению она во многом соответствовала. Гончаров, как мы увидим из разбора следующего случая, мог придерживаться даже более мрачных взглядов — судя по всему, в глубине души он не соглашался с Полонским и с большинством российских публицистов в едва ли не главном пункте: что Северо-Западный край был населен русскими.
Обратимся к судьбе другого произведения на ту же тему — пьесы А. Д. Столыпина «София». Генерал Столыпин, подчиненный и протеже виленского губернатора К. П. Кауфмана, современным исследователем характеризуется как «энтузиаст русификации, смущавший своими эксцентричными изречениями о поляках и католиках даже привыкшую к проявлениям ксенофобии виленскую публику, не говоря уж о петербуржцах»[248]. Для воззрений Столыпина и его окружения, в частности, характерны страх перед кознями иезуитов, убежденность в полной зависимости «темных» литовцев от «ксендзов» и многое другое[249]. Все это выразилось и в драматическом сочинении Столыпина, предназначенном для постановки на сцене казенного Виленского театра, где лишь недавно появилась профессиональная труппа, игравшая, разумеется, исключительно на русском языке.
Постановка «Софии» в Вильне, конечно, имела пропагандистский смысл[250]. В программной статье о функциях русского театра, опубликованной в «Виленском вестнике» (в свою очередь, лишь незадолго до этого начавшем печататься только по-русски), утверждалось, что местный театр дополняет «материальную» (то есть военную) силу и являет «русскую духовную силу», которая «должна быть направлена на нравственное поднятие местной русской народности самой в себе»[251]. Этой цели нужно было достигать скорее культурными средствами: от театра требовалось «пробуждать любовь к родному слову, популяризировать лучшие его произведения, распространять и очищать русский язык»[252]. Целью было убедить жителей губернии, что они действительно представляют русскую народность. Такая задача в другой статье прямо характеризовалась как политическая, причем критик ссылался на слова Екатерины II, определявшей театр как «школу народную», которая должна быть под прямым контролем представителей государства[253]. В этом контексте и ставилась пьеса Столыпина. Еще до ее появления на сцене из газеты можно было узнать о чтении «Софии» в каком-то кружке, в ходе которого ее автор высказывал, в частности, сомнения в возможности ставить сатирические пьесы, демонстрирующие «национальные постыдные пороки» России, на виленской сцене[254]. Действие драмы Столыпина, по утверждению Столыпина, основано на произошедших в Польше событиях, которые он перенес в Виленский край.
В своем пространном отзыве Гончаров сопоставил «Софию» с «Разладом» Полонского, где, по его словам, «ловко схвачены некоторые черты польского характера, глубоко освещена бездна коварства, фанатизма, насилия и т. п.» (Гончаров, т. 10, с. 188). Действительно, пьесы схожи даже на уровне фабулы. Как и у Полонского, у Столыпина изображается любовь русского офицера, участвующего в подавлении восстания, и местной дворянки, приводящая к конфликту чувства и долга. Однако если в «Разладе» из-за любви происходят сложные нравственные переживания и прозрение главного героя, то у Столыпина, напротив, в ситуации выбора оказывается заглавная героиня. Дочь польского пана и давно умершей русской православной дворянки, в начале пьесы она не может найти себя и даже не уверена, как возлюбленному лучше ее называть: по-русски — Соничка — или на польский манер — Зося[255]. Не менее серьезной оказывается проблема конфессиональная — говоря о польском богослужении, София рассуждает: «Все это величественно, — но как будто бы не родное, будто бы занесенное из чужой стороны <…> дрожащий голос старика на клиросе глубже проникал в мою душу, чем самые дивные звуки органа!..» (л. 10). Наконец, под вопросом оказываются и отношения с семьей: «…все понятия о долге, об отечестве, о любви к тебе, об уважении к родителям, даже об религии — перепутались в голове моей» (л. 14–14 об.). Острота этих противоречий нарастает ближе к кульминации, когда София узнаёт, что ее отец участвует в масштабном заговоре, ставящем целью напасть на казармы русских гусар, где находится ее жених: «Кому мне верить? Тебе ли, отец мой?.. тебе ли, мой Сережа?..» (л. 49). Противоречие, впрочем, разрешается мгновенно: простодушная крестьянка сообщает героине о гибели местного православного священника от рук заговорщиков. Осознав коварство и жестокость поляков, а также их ненависть и к «меньшей братии» (неоднократно используемое разными персонажами выражение), и к православию, София испытывает «прозрение» приблизительно в том же духе, что и герой Полонского:
…туман польщизны ведь так густо застилает зрение, а иго польское таким тяжелым камнем давит разум… давит дух, что правде трудно в отупевший мозг проникнуть! <…> Как только зарево я первого пожара увидала, туман рассеялся, и я прозрела! Как только первый стон услышала я меньшей братьи нашей, как только полилась невинная их кровь, я иго польское стряхнула с разума и духа моего! (л. 59 об.)
Политический смысл пьесы также во многом напоминает драму Полонского и выражается хором, в финале поющим: «Литва и Белая Россия / Не будут Польшей никогда!» (л. 60). Эту же идею постоянно повторяет Холмогоров, русский гусар и жених Софии. «…Здешний край искони русский» (л. 12 об.), — говорит он невесте, а позже повторяет: «Народ здесь весь русский, не сочувствует этим сумасбродам» (л. 14). Еще более внушительная доза рассуждений о глубинной «русскости» Виленской губернии достается сослуживцам Холмогорова: «…вы не хотите понять, что здешний край никогда не был польским!»; «Мы сами помогаем врагам нашим в деле ополячивания Западной Руси, называя ее — кто из невежества, кто безотчетно — Польшей, а жителей здешних — поляками» (л. 32 об.). Разумеется, Холмогоров и София оказываются правы: в пьесе поляки ни в грош не ставят простых людей, а те в глубине души всегда были православными. Чтобы доказать этот тезис, автор не жалеет красок: все до единого появляющиеся на сцене поляки, по выражению Гончарова, «носят характер трусов, глупцов или продажных негодяев» (Гончаров, т. 10, с. 187), которыми манипулируют кукловоды — профессиональный революционер-космополит, ссылающийся на «Колокол» Герцена[256], и замаскированный иезуит. Наконец, в глубине души польские паны, заботящиеся о своих сословных привилегиях, оказываются крепостниками — отец героини, например, жалуется на испортившийся народ: «Это все эмансипация» (л. 23 об.).
Целью драмы была русификация местного населения, которое должно было также пережить своеобразное прозрение и увидеть в себе русских православных людей[257]. Пересказывавший авторские комментарии к своей пьесе журналист утверждал: