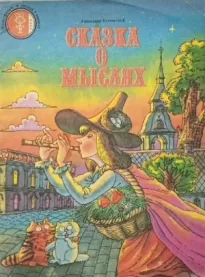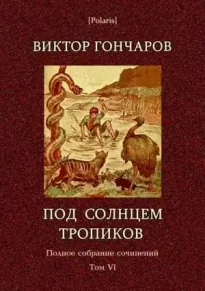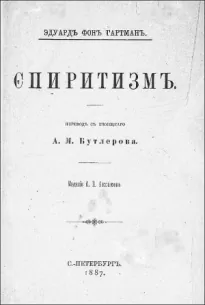Просвещать и карать. Функции цензуры в Российской империи середины XIX века
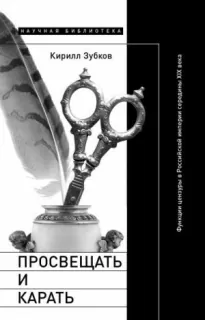
- Автор: Кирилл Зубков
- Жанр: Критика / Литературоведение / Современные российские издания / История России и СССР
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Просвещать и карать. Функции цензуры в Российской империи середины XIX века"
«Литературное удовольствие» для цензора оказалось противоположно возможным «применениям», то есть потенциально опасной политической актуальности. Трагедия, традиционно считавшаяся наиболее эстетически и политически значимым жанром, переосмыслялась в этой теории как самая безвредная отрасль драматической литературы в силу задаваемой жанром дистанции, отделяющей зрителя от героев. Конечно, в трагическом произведении можно было увидеть действия, с точки зрения цензора не заслуживающие подражания (в «Макбете» — очевидно, убийство законного правителя страны). Однако, с точки зрения Ольдекопа, люди в зрительном зале не могли воспринять далеких от «настоящей жизни» персонажей как образцы поведения. Если зритель комедии мог увидеть в ней представителей того же сословия, что и он сам, то в трагедии это, по всей видимости, казалось невозможно: едва ли кто-то мог отождествить себя с шотландским таном, узурпирующим власть.
Руководство цензурного ведомства, впрочем, к позиции цензора не прислушалось: «Макбет» так и не был разрешен к постановке, как и, например, произведения Шиллера. Причина здесь в том, что начальство видело в зрителях, особенно «простонародных», еще более наивных существ, чем предполагал Ольдекоп. Даже самые далекие от повседневной жизни примеры, как опасалась цензура, можно было воспринимать как нарушающие «приличия». Так, в 1853 году запрещены были «Облака» Аристофана — комедия, наполненная «выражениями, которые у древних считались только откровенными, а ныне представляются только неприличными» (Дризен; Федяхина, т. 1, с. 152). Идея, что эстетическое качество произведения, особенно произведения общепризнанного классика, может так или иначе «нейтрализовать» его безнравственность или/и политическую опасность (напомним, эти две категории цензурой не всегда различались), в принципе была вполне мыслима для российских цензоров, однако руководство не рекомендовало ей следовать. Впрочем, впоследствии эта ситуация изменится: при Александре II эстетическое достоинство действительно будет считаться и достоинством моральным.
Перед цензором, таким образом, было две возможности трактовать «безнравственность» в пьесе. С одной стороны, можно было руководствоваться авторским заданием и сюжетом пьесы: если аморальные, по мнению цензора, персонажи не торжествуют и не должны вызывать сочувствия зрителя (или читателя), то пьеса воспринимается скорее как нравственная. С другой стороны, можно было считать неприличным само изображение каких бы то ни было явлений, резко расходящихся с принятой нравственной нормой. Цензоры времени Николая I, как видим, были скорее склонны ко второму подходу: даже пьеса с нравственной идеей могла быть неприлична, если просто показывала на сцене нечто способное неприятно поразить зрителя. Во многом эта дилемма связана с общим беспокойством европейских цензоров того времени: если театральные представления посещают многочисленные представители недостаточно образованной публики, то нельзя рассчитывать на их способность адекватно воспринять авторское задание (см. раздел 1). «Темные массы», как выражались в это время английские и французские коллеги Гедерштерна, могли отреагировать на сам факт сценического изображения чего бы то ни было безнравственного, а не на авторское задание. Российские цензоры, как кажется, в целом мало надеялись даже на образованного зрителя: практически любой посетитель театра для них был скорее объектом воспитания, чем носителем какой бы то ни было полезной нравственной нормы.
Цензоры николаевского времени, таким образом, занимали покровительственную позицию, стремясь воспитывать всех посетителей театра, как высокопоставленных, так и простонародье. Сцена беспокоила их прежде всего даже не угрозой распространения опасных идей, а скорее демонстрацией нежелательных моделей поведения. Как представляется, такая позиция цензоров в целом соответствовала политической логике всесословной монархии, в которой император воспринимался не только как глава государства, но и как глава каждого сословия, ответственный и за политику, и за духовное и нравственное состояние общества: «Превосходство Николая было моральным, а не метафизическим или эстетическим»[462].
Постепенно, впрочем, позиция цензоров менялась, особенно по отношению к предназначавшимся для Михайловского театра пьесам, которые заведомо не могли быть доступны русскому простонародью, поскольку игрались на французском языке. В 1849 году по рекомендации Гедеонова была запрещена комедия де Виньи «Quitte pour la peur», а в 1850 году Гедерштерн советовал разрешить ее, хотя сам характеризовал как не вполне нравственную:
Сюжет хотя не есть нравственный, но пьеса написана с благородством и содержит в себе картину дурных последствий браков высшего общества, в коих часто мужья по их вине лишаются любви жен и прав на их верность. Посему к представлению сей пьесы на сцене цензура не встречает препятствий (Дризен; Федяхина, т. 1, с. 265).
Таким образом, для франкоязычной публики авторская позиция оказалась, с точки зрения цензора, более значимой, чем «безнравственность» темы.
Кардинально по-другому сложилась ситуация в первые годы царствования Александра II. Попав в новые условия, сотрудники драматической цензуры изменили свое отношение к театру и публике. Если раньше они были склонны просто исключать любые «безнравственные» эпизоды, образы и выражения, то есть стремились отменить вредное влияние пьесы, то теперь их намного больше интересовало, может ли она подействовать на зрителя положительно. В новых условиях цензоры были склонны видеть в театре «школу нравов», особенно эффективную для национальной политики (см. главу 3 части 1). Когда возмущенный отрицанием семейных ценностей А. Е. Тимашев требовал снять с постановки пьесу В. А. Крылова «На хлебах из милости» (1870), он руководствовался представлениями о поучительном характере театра:
…едва ли удобно, чтобы сцена императорского театра обратилась в кафедру для распространения и преподавания учений, с которыми правительство и здравая часть общества вынуждены вступить в борьбу (Дризен; Федяхина, т. 2, с. 71)[463].
Показательно, что Тимашев ссылался не только на правительство, но и на «здравую часть общества», определяя театр как «школу». Цензура уже не могла считать себя единственным источником авторитета — в школе должны быть учителя, а цензоры вряд ли считали себя компетентными наставниками, особенно если учесть, что прямо обратиться к публике они не могли. Теперь ведомство должно было наладить диалог с драматургами и актерами, чтобы вместе «учить» публику.
Кардинально изменились и принципы интерпретации текстов цензорами. Пьеса рассматривалась уже не как совокупность отдельных сцен, персонажей и выражений, а как автономный эстетический феномен, обладающий определенной внутренней структурой и выражающий позицию автора (см. главу 1). Так, комедию А. П. Тихановича (Тихоновича), направленную против позитивизма, под названием «Цель жизни» (1877) запретили на том основании, что «автор не справился с своей задачей, и комедия его, представляя полную несостоятельность обвинения, может лишь послужить пропагандой тех самых идей, которые автор думал осмеять» (Дризен; Федяхина, т. 2, с. 72). Очевидно, дело было не в самой по себе «безнравственности» идей: цензоры были бы более удовлетворены этим произведением, если бы автор выражал свою позицию более убедительно.
Для эволюции цензурного ведомства показателен казус с французской драмой Ф.-Ф. Дюмануара, Л.-Ф. Клервилля и Л. Гийара «Гларисса Гарлоу» (1846), представляющей собою драматизацию романа С. Ричардсона, которая, как и ее перевод на русский язык, была запрещена «по безнравственности» (Дризен; Федяхина, т. 2, с. 71). И действительно, согласно мнению цензора Гедеонова, «<п>ьеса представляет разврат во всей его наготе» (Дризен; Федяхина, т. 2, с. 365). Как нетрудно догадаться, сценическая версия нравоучительной «Клариссы» не содержала и не могла содержать никакого одобрения «разврата» — но для запрета достаточно было этот разврат показать. Ко временам Александра II ситуация полностью преобразилась: теперь это произведение оказалось вполне допустимо. Актриса Стелла Коллас, желавшая сыграть главную роль в этой пьесе, несколько раз пыталась добиться разрешения ее постановки, однако руководство III отделения не считало нужным дозволять «неприличную» пьесу скорее в силу нежелания менять более раннее решение. В 1867 году «Клариссу Гарлоу» разрешил поставить лично император, руководствовавшийся прежде всего соображениями эстетическими, — «во внимание к недостатку в наше время хороших драматических новостей» (Дризен; Федяхина, т. 2, с. 365). Таким образом, сценическое и литературное качество пьесы и ее смысл стали для цензуры более значимы, чем «приличие» отдельных фрагментов и сцен.
По всей видимости, этот перелом был связан прежде всего с кардинальным изменением в отношении цензоров к публике. Если «нравственность» или «безнравственность» пьесы определялись авторской позицией и реакцией на нее зрителей, а не характером самих по себе отдельных эпизодов, то для цензоров стало особенно важно, каким образом публика воспринимает эту пьесу. «Нравственность» оказалась, таким образом, результатом сложного взаимодействия автора и интерпретирующего его произведение зрителя, а не свойством отдельных сцен или персонажей. Соответственно, в цензурном ведомстве эпохи Александра II постоянно шли принципиальные споры о том, как соотносятся авторская идея, эстетическая природа и возможное влияние пьесы на публику. Особенно показательны в этой связи протоколы Совета Главного управления по делам печати, члены которого принимали решения коллегиально и должны были развернуто обосновывать свою позицию.
Начиная с середины 1850‐х годов цензоры все больше думали о зрителе, его позиции и о том, как он интерпретирует драматические произведения. Цензорские отзывы этого периода наполнены многочисленными рассуждениями об эстетической природе рассматриваемых пьес, вложенном в них автором смысле и проблематике. Понимание цензорами общественной роли произведения и его нравственности оказалось теперь напрямую зависимо от этих вопросов. Так, по поводу пьесы М. Н. Владыкина «Мечты и действительность» (1880) цензор Фридберг писал: «Вся эта комедия представляется бездарным произведением, в котором тщетно было бы искать хоть одну светлую и здравую мысль, одно честное побуждение, один порядочный поступок» (Дризен; Федяхина, т. 2, с. 434). «Непорядочность» пьесы оказалась прямо связана с ее эстетическим уровнем. Именно по этому поводу цензор сожалел, что цензура «не уполномочена произносить запретительного приговора по вопросам чисто литературным» (Дризен; Федяхина, т. 2, с. 152), и винил Театрально-литературный комитет (об этой организации см. в экскурсе 4) в том, что он «нередко преследует предпочтительно экономические цели, вместо того чтобы стремиться к установлению беспристрастной литературной оценки» (Дризен; Федяхина, т. 2, с. 152). Впрочем, вопреки Фридбергу, Совет отказался руководствоваться литературными вопросами и запретил постановку пьесы. Другой пример — пьеса А. С. Ушакова «Преступление и наказание», переносящая на сцену события романа Достоевского. В 1867 году член Совета министра Ф. М. Толстой, рассматривавший ее, доказывал возможность постановки тем, что общий смысл произведения оказывается нравственным, несмотря на аморальность теории главного героя: