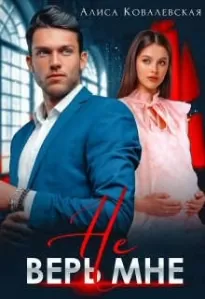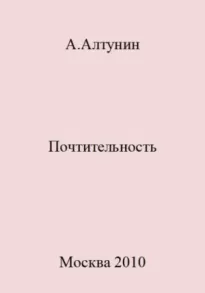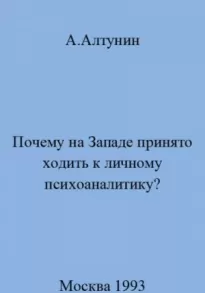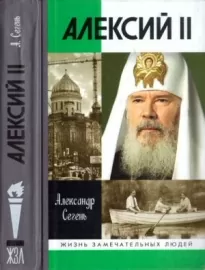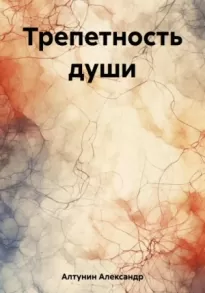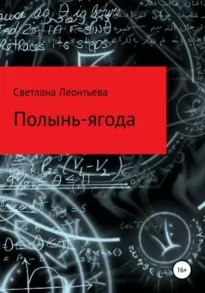Страсти по России. Смыслы русской истории и культуры сегодня
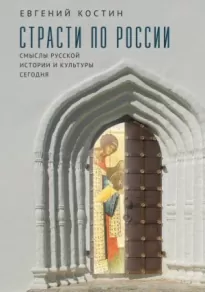
- Автор: Евгений Костин
- Жанр: Культурология / История: прочее
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Страсти по России. Смыслы русской истории и культуры сегодня"
* * *
Первый раз я лично познакомился со Светланой Григорьевной, когда она приехала в Вильнюсский университет для участия в конференции по русской литературе. К слову сказать, тогда в 1996 году из многих заявленных крупных исследователей из России она приехала чуть ли не одна и выступила с принципиальным докладом «Высшие вопросы человеческого существования как сквозные проблемы русской литературы». Точнее нельзя и сказать о главном направлении всех ее работ в русском литературоведении. Хотя тут же необходимо заметить, что было бы неточно и несправедливо обозначать поле, на котором без устали трудилась С. Семенова, только как литературоведческое. В том-то и дело, что она синтезировала в своих подходах и философский дискурс, и литературоведческий, и лингво-стилистический, и исторический, да и публицистический. С этой точки зрения ее творчество, как и творчество Г. Д. Гачева, носит уникальный характер для русской гуманитарной науки второй половины XX и начала XXI веков.
Нельзя не сказать и об огромном впечатлении, которое она произвела тогда самой манерой чтения своего доклада, отклоняясь время от времени от текста и начиная витийствовать в самом прямом смысле этого слова. Точная, выверенная фраза, насыщенность нигде и никак не забывающей себя сложной мысли в многочисленных обертонах уточнений и отступлений, но победно прорывающейся к главной основной линии изложения.
Сама мысль была переполнена таким эмоциональным содержанием, что она начинала убеждать помимо самой своей логики, помимо аргументов. Это было прямым воплощением той мыслительной традиции, которая счастливо выжила в перипетиях советского догматизма гуманитарных штудий и сохранилась у А. Ф. Лосева, у С. С. Аверинцева, у А. В. Михайлова, у других выдающихся мыслителей. Сравнивая ее дискурс с манерой изложения Г. Д. Гачева, а это сравнение более чем уместно, тем более, что сама Светлана Григорьевна признавалась, что именно супруг «научил» ее столь бесстрашному нахождению на предельных пиках интеллектуализма, то необходимо заметить, оговаривая это сугубо личным впечатлением, что С.Семенова поднималась чрезвычайно высоко в своих просмотрах и русской мысли, и русского духа, и русской литературы. Ей в меньшей степени, чем Г. Д. Гачеву, был присуща оборачиваемость к каким-то приземлены) стям и объяснениям материалистического толка.
Она воплощала в себе и те необходимые для русской религиозно-философской мысли прорывы в мистическую метафизику, о которой в свое время говорил Лев Карсавин. И это пленяло и убеждало, чуть ли не больше, чем стройная логика изложения.
Светлана Григорьевна еще два раза приезжала в Вильнюс, в 1997 и 1999 годах, с докладами о философии и литературе в России XX века и о пушкинской философии любви и смерти в контексте русской мысли XIX–XX веков.
Мы немало времени проводили тогда вместе, на кафедре русской (славянских) литературы, в экскурсиях по православным храмам Вильнюса, в дружеских неформальных посиделках в стенах университетского кафе и беседовали обо всем, но главным образом о русской литературе и русской мысли. Поражала вот эта ее сконцентрированность на внутреннем постоянном обращении к главным, основным идеям, не отпускавшим ее ни на минуту.
В своей большой статье в «Литературке» о конференции 1997 года Борис Евсеев очень выразительно написал о выступлении Светланы Григорьевны как «громоподобном», имея в виду не громкость самого произнесенного доклада, но об ударе по потрясенной аудитории идеями, связанными явно с небесной канцелярией. На этой же конференции мы попросили ее пообщаться со студентами-магистрантами, и долго еще на отделении ходили уж совсем фантастические слухи о том, что и как нечто невообразимо сложное и одновременно понятное рассказывала им Светлана Григорьевна. Многих студентов эта лекция-беседа потрясла надолго, а многим и указала путь в культуре. Эта встреча, можно сказать, вошла в устную мифологию 200-летней истории русистики Вильнюсского университета.
Помню также ее глубокое погружение в себя при посещении Свято-Духова монастыря, при поклонении мощам виленских православных мучеников Антония, Иоанна и Евстафия. И это явное, не показное, но органичное чувство религиозности также шло ей и было естественной ее чертой.
Мы как-то подружились, я подарил свою книжечку о Шолохове. И когда какое-то время спустя мы встретились в Москве, мне было приятно узнать, что она ей понравилась, и потом в ее книге 2005 года об авторе «Тихого Дона», я нашел несколько дорогих мне ссылок на свою работу.
И еще одно воспоминание. Уже уйдя из Вильнюсского университета по причинам не научным, но политическим, не желая своими руками разрушать то, что так долго и с любовью создавалось, я, время от времени, звонил Светлане Григорьевне, болтал о том о сем, пока не дождался от нее упрека, – куда же я пропал, когда тут затевается «такое» дело с «Шолоховской энциклопедией». Так что мое присутствие в этом издании безусловно связано с именем Светланы Семеновой, о чем я не преминул рассказать в одной из своих работ об истории создания энциклопедии.
У меня хранится немало книг Светланы Григорьевны с ее надписями, пожеланиями. Написала она много, но ничего в этом написанном нет случайного. Жизнь человеческого духа, любовь, смерть, Христос, Россия, русская культура, судьба русского человека – никто, может быть, не высказался так подробно, как она, по всей повестке русской духовности в наши дни. У всех есть свои фрагменты – важные, глубокие, свой островок русского смысла, – но ей удалось охватить это целиком.
В последней ее книге о русской «сердечной мысли» просматривается уже и какой-то переход к художественному дискурсу. Именно она смогла бы написать книгу о русском Фаусте, о поисках правды в жизни, о сохранении человеческого в человеке. Масштаб ее личности удивляет. Если окинуть взором весь ее путь в науке – видим, что это не просто движение в одну сторону, углубление и проникновение в глубины еще непонятого и неисследованного, но осваивание русской мыслительной материи концентрическими кругами, захватывая все больше и больше пространства и двигаясь в разных направлениях. Ее опыт в этом отношении уникален.
В книге, которую она сама не раз называла самой главной в своей жизни «Тайны царствия небесного», есть главка, которая называется «Оправдание России». Мне очень дорог этот поворот в ее размышлениях, поскольку без этого органичного фундамента и чувства причастности к неким безусловным ценностям высшего порядка, связанным с жизнью твоего народа, отчизны, родной культуры, русского слова, невозможно ответственно и честно писать что-либо о человеке, его жизни и смерти.
Русская парадигма мысли Светланы Семеновой останется в русской культуре надолго, если не навсегда, так как ею был угадан и воспроизведен в рамках рационального мышления тот путь развития русской мысли, который если и не воспринимался (по крайней мере, в рамках западного сознания), как тупик, но интерпретировался как нечто эфемерное, причудливо-мистическое – уж точно. И оказалось, что в этих, казалось бы, несбыточных мечтаниях Н. Федорова о воскресении всех умерших, о построении некоего царства справедливости и добра на земле для всех без исключения, в этом – проклятом Западом – русском утопизме, есть основание и право на некоторое оправдание и спасение большинства живущих на земле.
Светлана Семенова проделала сложнейшую эволюцию и как ученый и как человек, но одновременно дала нам основания верить в то, что русская мысль еще не угасла в своем истинно оригинальном наполнении, и не должна она поэтому питаться какими-то остатками со стола западной философской и культурологической мысли.
Ее собственная жизнь и ее творчество также есть известное оправдание России в ее высшем духовном смысле.