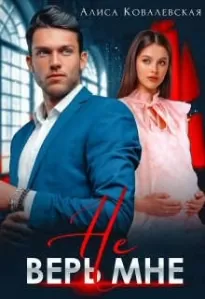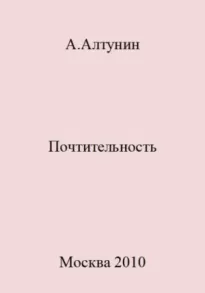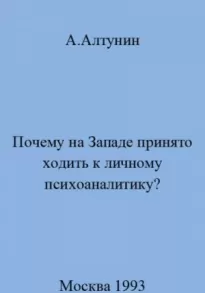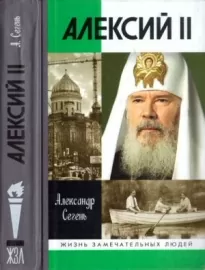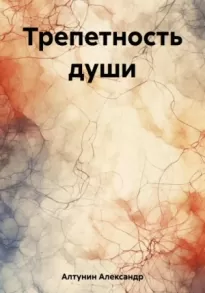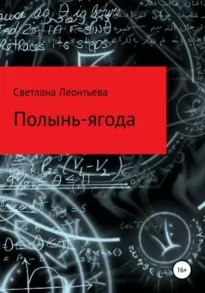Страсти по России. Смыслы русской истории и культуры сегодня
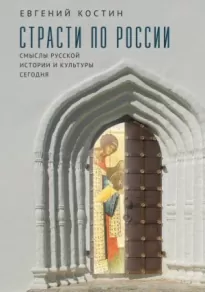
- Автор: Евгений Костин
- Жанр: Культурология / История: прочее
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Страсти по России. Смыслы русской истории и культуры сегодня"
* * *
Обобщающая категориальность восприятия бытия, какую мы обнаруживаем в разных мифологиях, представленных в мировой культуре, говорит о том, что сознание человека на первых этапах своего развития легче оперирует с абстрактными величинами и обобщенными суждениями, представленными в мифе. И это, несмотря на то, что они прячутся за конкретными героями, перипетиями их судеб и подробностями их странствий по открывшемуся миру-вселенной, который необходимо обживать, в том числе и интеллектуально. Заметим, что во всяких мифологических парадигмах нет не перемещающихся во времени и пространстве героев. Миф не может состояться, концентрируясь вокруг неподвижного мифологического героя: всякий раз он движется и в движении под него упорядочивается и структурируется сама действительность. И это пространство движения героя, время его существования обратным образом осмысляются, и именно таким образом эти категории «очеловечиваются» и получают свое антропное измерение.
Вот Икар, сын великого изобретателя Дедала, не послушал своего отца, создателя крыльев из перьев голубей и скрепленных воском и медом, поднялся слишком близко к солнцу, отчего воск и мед растаяли, и он упал в морскую бездну. В этом мифе все имеет конкретное выражение и воплощение, включая описание самих крыльев, место заточения Дедала и Икара в горах по воле бессердечных богов, но основный смысл, какой прочитывается нами и сегодня, заключается в воплощении в данном мифе порыва человека к неведомому, нарушение всяческих запретов и ограничений, и представляется нам изумительным примером мечты и преодоления земного притяжения каждым человеком, поднимающимся над обыденностью жизни.
Миф поиска и обретения истины, миф о тщете жизни, миф о преодолении предусмотренной парками судьбы, о победе над смертью и переходом в состав бессмертных богов, миф о возвращении к родному очагу, о поисках «золотого руна (века)» и т. д. и т. п. Мы продолжаем пользоваться этим наследием, причем оно угнездилось в самых основаниях нашего понимания и аксиологизации действительности, стало чуть ли не основной частью нашей эпистемологии. Но и этого мало, вся наша культура должна была впаять в себя совокупность смыслов, выраженных в мифологии. А художество как таковое невозможно без использования универсальных моделей воспроизведения реальности (тот самый мимесис), какие впервые были определены именно что в мифологических формах идеальной деятельности человека. Чудесно также и то, что верность угаданных смысловых, а стало быть, и человеческих противоречий такова, что мы ничуть не подвергаем сомнению исходную базу нашего истолкования человека, природы и космоса.
Внешне кажется, что к Шолохову такой подход не приложим, так как у России (Руси) не было своей мифологии. Но это не так. Как автору представляется, и в своих предыдущих работах, посвященных формированию русской эпистемологии, он старался доказать, что роль подобной древнегреческой мифологии в русской культуре сыграл процесс особого формирования самого русского языка, какой соединил в себе религиозную мифичность и дописьменные, языческие представления древнерусских людей.
О мифологии у Шолохова впервые и последовательно было сказано в наших работах 80-х гг., в том числе в монографии «Художественный мир писателя как объект эстетики. Очерки эстетики М. А. Шолохова» (Вильнюс. 1989), идеи которой в итоге вошли в текст докторской диссертации «Эстетика Шолохова», защищенной в Пушкинский Доме (ИР Л И АН СССР) в 1990 году. В самом начале 90-х годов А. М. Минакова обратила на это внимание, подтвердила данное обстоятельство приоритетности и сама успешно работала в этом направлении. Весьма продуктивным развитием идей мифологизма творчества Шолохова является ее книга «Поэтический космос М. А. Шолохова. О мифологизме в эпике М. А. Шолохова» (М., 1992).
х х- х-
Тут необходимо провернуть ленту немного назад и представить, а что такое красота и гармония были для мира, когда в нем еще не было человека разумного, а были только какие-то наши предшественники в виде членистоногих, морских гадов или каких-то иных явлений природного мира. Был ли этот мир прекрасен, как он прекрасен для нас сейчас? Ведь мы воспринимаем планету Земля как некий удивительный феномен уникальности и красоты для нашего человеческого сознания. Так ли это? Не ошибаемся ли мы? Может, это все же нечто вроде стокгольмского синдрома, опрокинутого в прошлое, и как заложник начинает любить своего похитителя, так и мы любим землю, поскольку ничто другое нам не ведомо, неизвестно, а космос, окружающий нашу родную землю, кажется нам враждебным и смертельно опасным. Здесь же, на земле, все нам знакомо и близко, такое голубое небо, синий океан, нежный ветерок обвевает нашу голову. Даже и для бушмена, зулуса их африканская саванна, как для бедуина пустыня, полны прелести и красоты, несмотря на смертельную жару, отсутствие воды, а все потому, что для них это родной и единственный дом, и в этом вся причина и основание.
Мы даже не знаем, насколько нам было бы комфортно во время царства динозавров или саблезубых тигров или каких-нибудь ящеров, которые знакомы нам только по картинкам палеозоологов с их неуемной фантазией или палеонтологов, опирающихся на 2–3 косточки прежних чудовищ, бродивших по земле какие-то несколько десятков, а то и сотен тысяч лет назад, обнаруженных в каких-нибудь горах или степях. Нечего и фантазировать, мы знаем и любим только тот мир, какой мы знаем, как мы любим наших родителей, которые единственны для нас и неповторимы.
И конечно, то, что мир стал истинно прекрасен всего лишь с появлением человеческого оценивающего взора, сознания, какое стало выявлять критерии для оценки всего того, что видит, слышит, чувствует, осязает человек, для нас безусловно. Но и здесь есть загадка – наши пять природных чувств, почему только пять? Ведь мы знаем о «тепловом» и «инфракрасном» зрении многих зверей, об особых качествах каких-то ничтожных насекомых и примитивных с человеческой точки зрения животных, какие перед тем, как укусить свою жертву, впрыскивают в нее обезболивающую субстанцию, подобно комарам, или отращивают себе хвост на месте прежнего, как ящерицы, или могут видеть на 360 градусов, не поворачивая головы, как многие стрекозы. Много чудес у природы. К примеру, человеческий спектр зрения не совпадает со спектром многих животных, и они видят мир преимущественно в фиолетовом цвете или зеленом (так, по крайней мере, убеждают нас биологи). Так какой цвет является настоящим, больше соответствующим объективным сторонам действительности? Нет ответа.
Но очевиден другой вывод – человек должен исходить из своих собственных физических возможностей и принимать их как некую объективную данность, не сравнивая себя с другими живыми существами, хотя бы и в этом отношении. Говорил же поэт – «Не сравнивай, живущий – не сравним».
Красота появляется там, где появляется человек. Конечно, нам опять, в который раз, придется обращаться к античной сокровищнице духа, когда он, дух, идеальное, стали проявлять себя как мощные движительные начала жизни. Сама реальная жизнь для гомеровского грека вся полна материальной теплоты и прелести, когда сам язык создается почти как прямое отражение предмета, движения, плотности и вязкости бытия, его многообразия в физическом смысле. Изучая античность, я часто ловил себя на мысли, отчего в этом процессе исследования древнегреческой мифологии так завораживающе начинают звучать вот эти строки гениального Мандельштама:
Бессонница. Гомер. Тугие паруса.Я список кораблей прочел до середины:Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,Что над Элладою когда-то поднялся.Как журавлиный клин в чужие рубежи, —На головах царей божественная пена, —Куда плывете вы? Когда бы не Елена,Что Троя вам одна, ахейские мужи?И море, и Гомер – все движется любовью.Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,И море черное, витийствуя, шумит,И с тяжким грохотом подходит к изголовью.
Самая знаменитая война в истории человечества – Троянская, с которой все и началось в культурном смысле, велась вовсе не за покорение народов и освоение новых земель, они и так были эллинскими, но с желанием вернуть похищенную красоту, божественно прекрасную Елену. Ее власть над собой признали и троянские мудрецы, когда увидели украденную Парисом женщину и согласились с тем, что будущая война и разрушения достойны этой Красоты. В конце концов, гениальность Гомера, сумевшего дать завершенный в своей полноте слепок древней Эллады, заключалась и в выборе этого поразительного сюжета (бывшего в реальности) борьбы, битвы за нечто необъяснимо прекрасное. При всем том, что остальной Элладе необходимо было отомстить дерзкому Парису, наказать Трою за неподобающее поведение, но все это обертоны, сопутствующие линии глубинного понимания жизни, какое начинает прорезываться у древних греков и превращать их пластичность в духовные субстраты описания действительности.
Мандельштам очень точно резюмирует этот переход от «списка кораблей» к «красоте и любви» – «и море, и Гомер – все движется любовью». Нельзя не заметить, что в троянском походе участвовал и величайший герой древности Ахиллес, что только усиливает важность торжества идеи (именно что идеи, это важно понять и услышать у Гомера) борьбы за красоту, овладение ею. В этом эпическом повествовании о становлении – ни больше и ни меньше – европейской цивилизации и оформление ее культуры в основных смысловых узлах, данный поворот событий и основная фабула рассказа Гомера являются неоспоримо важнейшими и достигающими смысловых вершин Древней Греции.
То же происходит и в «Одиссее» Гомера – это не просто история жизни царя Итаки и повествование о его возвращении к родным пенатам: иносказательный смысл, какой рвется из каждой строчки великой поэмы, гораздо больше рассказа о встречах Одиссея с разнообразными природными чудесами, циклопами, о чудесном спасении от сирен и многом другом. Все это, по отдельности, также представляет из себя сжатые варианты отдельных мифов, но важнее этих обстоятельств – соединенность конкретных мифологических нарративов в «Одиссее» – включение их в грандиозный миф поиска и обретения человеком смысла жизни. Именно в рамках этого сверх-мифа объясняется, встраивается, соединяется друг с другом все отдельное и частное. Картина мира становится универсальной, обобщенной, содержит в себе примирительное содержание начала, развития и завершенности последовательных событий и элементов жизни. Это та же матрица, какую накладывал Аристотель на понятие композиции (речь шла о древнегреческой трагедии), то есть целостную структуру произведения искусства – начало, середина (кульминация) и конец.
Мы встречаемся у Гомера с отчетливо видимым процессом формирования эпистемологических механизмов описания и объяснения реальности. Удивительно, но по большому счету мы продолжаем жить в пределах все тех же раз и навсегда угаданных и воспроизведенных слепым гением мыслительных координат осознания человеком действительности, какие были представлены в поэмах Гомера. Конечно, не им одним, тут же находится и Гесиод, и другие древние авторы, тексты которых дошли до нас. А сколько не дошло!