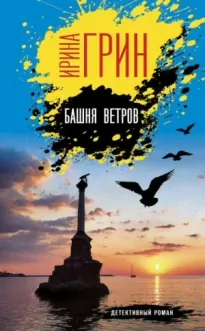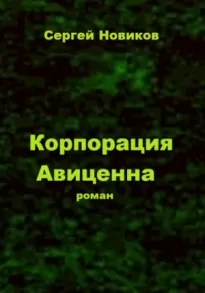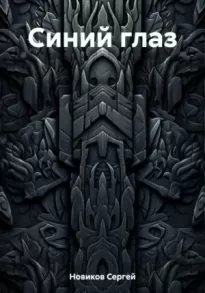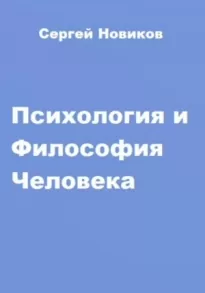В интересах истины
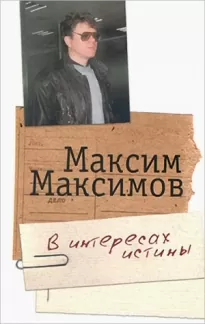
- Автор: Максим Максимов
- Жанр: Публицистика
- Дата выхода: 2009
Читать книгу "В интересах истины"
Вне процесса
— В нынешнем процессе русские — единственная нация, которая теряет. У них была большая империя — и вдруг она разваливается. Русский шовинист, русский обыватель еще не понимает, что он должен вздохнуть облегченно, что это спасение для России, что Россия давно не живет уже своей национальной жизнью, — считает гость «Смены» писатель Фридрих Горенштейн.
В квартире у Фридриха Горенштейна — ремонт. «Маленькое разорение», — говорит хозяин. В Западном Берлине люди, оказывается, тоже устраивают дома ремонт. Впрочем, Западного Берлина как бы уже и нет, есть Берлин единый…
Кажется, он где-то недавно признался, что хочет сходить по ту сторону разрушенной стены, посмотреть, как там живут, в Восточной Германии. «Маленькое разорение», — сказал бы он, наверное.
Фридрих Горенштейн — самый запоздалый «возвращенец» в русскую литературу. С 1980 года он живет в Западном Берлине, опубликовав до этого на родине лишь маленький рассказ в «Юности» в 1966 году. И лишь год назад журналы вспомнили о существовании Горенштейна и бросились наперебой его открывать. Появились рассказ «С кошелочкой» («Огонек»), «Зима 53-го» («Искусство кино»), «Споры о Достоевском» («Театр»), «Три встречи с Лермонтовым» («Экран»), «Искупление» («Юность»), отрывок из «Места» («Знамя»). На подходе — «Псалом» в журнале «Октябрь». Готовится трехтомник Горенштейна в издательстве «Слово». Через несколько месяцев в библиотеке журнала «Звезда» выйдет эксклюзивное издание философско-эротического романа Горенштейна «Чок-чок».
— Фридрих, уже из отрывочных сведений о вашей жизни складывается весьма определенный образ — отшельника, затворника, человека, который принципиально не участвует ни в политической, ни в литературной жизни. Ни здесь, ни там. И даже не очень хочет, чтобы его произведения дошли до читателя…
— Во-первых, это неправильно, потому что я был исключен из литературной жизни. Меня не публиковали, меня не упоминали, меня замалчивали умышленно, замалчивали там, замалчивали здесь какое-то время… Это не я себя изолировал — это меня изолировали! А теперь, когда после многих лет мои книги доходят до читателя, я бы не хотел, чтобы меня механически присоединяли к той обойме, из которой я был выброшен.
— Что значит — присоединить к обойме?
— К обойме участников процесса 60-х годов, откуда меня фактически исключили, не публикуя, не давая мне никаких возможностей, — какие, например, получал Евтушенко… Тот же Солженицын, тот же Бродский — это все люди, которые принадлежали к литературной жизни, принадлежали к процессу. Причислять меня к этому ряду сейчас, задним числом, несправедливо и неправильно.
— Однако быть изгнанным из родной стран подобно тем, кого вы назвали, — разве не равносильно исключению из процесса?
— Это неправда! Бродский всегда был любимцем интеллигенции. Интеллигенция поддерживала его всеми силами, она создала вокруг него ореол. Его встретили здесь с распростертыми объятиями, засыпали его премиями, деньгами, должностями. Я не говорю о том, правильно это или неправильно, я говорю, что судьбы совсем разные! Меня тут замалчивали, относились ко мне или безразлично или плохо. Вся сановная интеллигенция была против меня. Они считали: ну, это не ценная личность, это не представляет собой интереса, и так далее…
— В ваших словах сейчас сквозит обида?
— Обида? Конечно. Я потерял время, я потерял годы. Я уже немолодой человек, у меня уже притуплено восприятие… Но мои книги от этого не страдают!
— Однако, Фридрих, вы ведь сами приехали сюда по приглашению Академии по культурному обмену и получали, наверное, стипендию…
— Первый год получал. Потом еще один год — поменьше. Затем появлялись кое-какие гонорары, жена стала работать. Но было очень трудно. Я выехал без карьеры, без шума. Слависты, которые сидят во всех университетах и на радио, меня не принимали. А чтобы делать здесь карьеру — надо быть подхалимом. Это теперь, когда я прожил здесь десять лет, написал много, у меня появилась репутация во Франции, все крупные французские газеты и журналы систематически пишут обо мне… Только теперь многие немецкие издательства стали ко мне обращаться! Только что меня издали под одной обложкой вместе с Василием Розановым. А поначалу — я не имел ни опыта, ни друзей. Книги мои отказывались издавать.
— Почему, как вы думаете?
— Здесь господствовала элита 60-х. Была выстроена своя табель о рангах, в которую я не вписывался. А во-вторых, по каким-то более глубинным истокам я не вписывался в их эстетический вкус. У них, знаете, в чести модернизм так называемый — не модернизм начала века, который завершился, а модернизм падший. А я развивался отдельно, я развивался, опираясь на традиции, на «мустер» — образец. Литературы без образцов быть не может.
— Что служило образцами для вас лично?
— Целый ряд книг. Теперь для меня является образцом литературы Библия. Но к этому образцу я шел через все возможные книги, и детские в том числе. Я шел постепенно и самостоятельно. А они из салонов пришли — Анны Ахматовой и прочих.
У них другая эстетика — эстетика, основанная на самовыражении при отсутствии канонов, при отсутствии мастерства, вот я теперь занимаюсь эпохой Ивана Грозного, изучаю старые иконы — они всегда создавались строго по канону. Рублевские иконы тоже создавались по канону!
А особенно теперь, когда истоптано все на земле, в том числе и культура, возродиться можно только через каноны.
— Вы хотите исключить из художественного творчества элемент самовыражения?
— Нет, разумеется. Но оно же повсюду преобладает над мастерством! Бывают периоды, когда отсутствует самовыражение. Однако теперь оно господствует. И при этом становится очень легко жить дилетантам! Этот процесс начался в 60-е. Ушел Пастернак… Кто остался? Уже не было никого. И новые люди пришли на разрушении всеобщем, на таком анархичном восприятии. Это при том, что среди них были люди талантливые — Войнович, Аксенов… Но у них у всех — другая эстетика.
— В этом — основной пункт вашего расхождения с шестидесятниками?
— Не только. Я многое не принимал у них — весь этот обновленный социализм, наши в буденовках и прочее. Но сегодня быть политически умным — не такое уж большое достижение. Я не принимал эти вещи чисто эстетически. Вслепую. Но нельзя упрекать их за это задним числом, как это отвратительно делает, например, Солженицын, который сам был одно время «против Сталина — за Ленина»…
— На ваш взгляд, обрисованная им расстановка сил в обществе и литературе 60-х неправомерна?
— Дело даже не в этом. Он не имеет права на многое, что он делает. Потому что он занимает явно фальшивое место, не то место, которое должен занимать, — хотя бы по литературным соображениям. Тут его уже начали сравнивать с Буниным, Герценом, Достоевским… Конечно, это играет очень отрицательную роль, потому что дает молодежи фальшивый маяк…
Солженицын — человек примитивного восприятия и такого… шовинистического духа. Причем этот шовинизм, знаете, тоже примитивный — это не шовинизм Розанова… А по языку — это не примитивность даже, это дубовость! Вы почитайте — это же дубовый язык! Он написал когда-то несколько неплохих очерков, теперь тоже устаревших. А потом — взялся за эти тома, потому что знает, что больше написать ничего не сможет. Солженицын, деревенская литература — это все ложные высоты, поразительно ложные! В 30-е годы такого не могло быть, потому что было мастерство, были образцы, по которым можно было сравнивать!
— Испытываете ностальгию по 30-м?
— И немножечко по 50-м. Тогда все же общий уровень литературы был несравнимо выше… Я не все принимаю у Платонова, и у Булгакова очень многое не принимаю, но общий уровень был выше… Вы знаете, есть в обществе нравы. Так и в литературе — есть нравы! И человек, пусть он будет плохой, но он знает, что ему нельзя вести себя по-другому. А что сейчас происходит? Упали нравы всяческие, в том числе и литературные. Поэтому Генис и Вайль выдают себя за каких-то великих критиков — люди из стенгазеты. Поэтому существует такой «образец», как Солженицын! В 30-е годы, когда господствовали определенные нравы, такое было невозможно!
— Вы имеете в виду нравы только литературные?
— Не только. Еще и нравы эстетические. Вы посмотрите, художники-сталинисты — такие, как Галактионов, — они писали хорошо! Они писали продажно, но хорошо! Потому что было неприлично писать плохо! Вот есть сейчас такой художник — Кабаков Илья, один из самых высокооплачиваемых. Так я пришел — и ужаснулся! Посмотрел на эти гвозди, которые он выложил, эти рваные башмаки… Такое раньше было неприлично!
— Ну, Кабаков как раз стал знаменитым не в Союзе — на Западе.
— Но существует общее падение нравов и во всем мире. В том-то и беда!
— И все же, Фридрих, неужели вы не видите у шестидесятников ни единой заслуги? Не хочу спорить по поводу мастерства, но ведь свою роль в обществе они бесспорно сыграли — и роль эта значительна…
— Но литература — это же не политика! Литература не признает «заслуги», она признает книги!
— Может, их миссия лежала вне литературы? Может, они проявили себя в первую очередь не как писатели?
— Да, но они же до сих пор господствуют именно в литературе! До сих пор господствует эстетика шестидесятничества в разных вариациях. А разве нет? Вся эта литература деревенская — это же тоже шестидесятничество, семидесятничество… Просто разные ветви. Это, в общем-то, очерковость, журнализм, неспособность к перевоплощению, а способность только к самовыражению…
— Фридрих, но вы же в свое время сами приняли участие в скандальном «Метрополе» в компании шестидесятников. Как такое могло случиться?
— Книга, вышедшая в «Метрополе», «Ступени», никем не была замечена, даже во Франции. Да и то, когда она уже вышла отдельным изданием вместе с другими повестями — на меня обратили внимание и сделали по ней инсценировку. Я не хочу отрицать значения этого издания, независимо от того, какие цели ставили его организаторы… Но мне оно ничего не дало. Дало Вознесенскому и прочим… Если бы я «Ступени» опубликовал в другом месте, было бы лучше. И, кроме того, я не знал, что это будет публиковать Проффер в «Ардисе». Он же отказался до этого публиковать меня, причем эту же повесть! Зачем же я ее давал опять? Это нехорошо.
— Вы поддерживаете отношения с кем-нибудь из «метропольцев»?
— Аксенов недавно был у меня… Но дело не в Аксенове как человеке. Он как раз не самый худший из них. Он — писатель до мозга костей, человек, который любит писать. Этим он от меня отличается. Я не люблю писать — тяжело очень. А он пишет, находит для себя такие темы, которые доставляют ему удовольствие.
— В «Метрополе» вместе с вами дебютировали молодые Попов и Ерофеев… Вы не следите за их судьбой?
— Это очень разные писатели. И в какой-то степени они — продолжатели шестидесятников. Женя Попов продолжает линию Аксенова, но при том идет самостоятельно, он более телесный. Виктор Ерофеев — очень хороший критик, а к прозе его у меня разное отношение. Но я уверен, эти люди в другой атмосфере были бы другими.