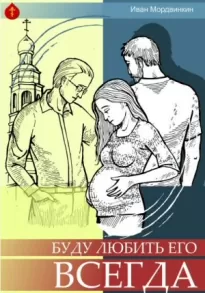Похороны Мойше Дорфера. Убийство на бульваре Бен-Маймон или письма из розовой папки
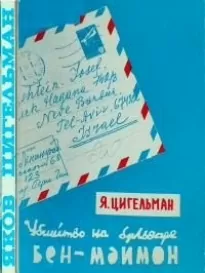
- Автор: Яков Цигельман
- Жанр: Современная проза / Антисоветская литература
- Дата выхода: 1981
Читать книгу "Похороны Мойше Дорфера. Убийство на бульваре Бен-Маймон или письма из розовой папки"
— Что значит — еврейское своеобразие? Вы — еврей. Чем вы отличаетесь от русского?
— А это ваше, писательское, дело объяснить мне, чем я отличаюсь. Если я отличаюсь. И если есть это своеобразие. А если его нет, то объясните — почему? Куда оно подевалось? Зачем же подставлять русским героям еврейские имена, зачем об этом писать на идиш? «Зачем? Зачем ты так? Посмотри, они боятся поднять глаза. Зачем ты так!.. Человечьи глаза — на полу. Бегают глаза по половицам, мигают от страха, от застаревшей боли. Старые, больные, все видевшие человеческие глаза, измученные, молящие о покое…»
— Нет! Ведь нет своеобразия! Как вы не понимаете? Времена Шолом-Алейхема прошли. Нет больше касриликов!..
— А что есть? Кто есть? Евреи — какие они? Если они евреи, а не русские, значит, чем-то отличаются? Чем? Что это значит — быть евреем?.. А если не знаете, пишите по-русски, у вас будет больше читателей!.. «Пожалей их! Разве ты не видишь? Вот лягушка, препарированная лягушка. Вот дрожит-содрогается приколотая иголкой лягушачья лапка… Они сами вырастили своего убийцу. Иллюзия, которой они наслаждаются, нужна их убийцам!.. Так пожалей их, пожалей! Они — последние…»
— …Я говорю: «Нет, товарищ инструктор, я не пойду к нему, я слышал разговор». Пошел на канатную фабрику, там нужен был радиоорганизатор. Прихожу, мне говорят: «Нам нужен журналист, чтобы был инженер с гуманитарным образованием и чтоб знал наше производство». Понимаешь, как завернули! На трамвайной остановке встречаю старую знакомую еще со студенческих лет. Работала все время секретаршей в какой-то конторе. В журналистике не работала ни дня. В секретаршах ей надоело, ищет работу. Я говорю: «Иди вон туда, на канатную». И что ты думаешь? Звонит назавтра: «Спасибо, Ефим, устроилась на канатную радиоорганизатором». Поехал я в Кишинев. Вхожу к редактору, а он мягко так улыбаясь говорит: «А вот еще один еврей на работу к нам устроиться хочет». Я повернулся и обратно в Харьков, взял билет на самолет, и вот я опять здесь… Познакомился я в доме отдыха с хорошим мужиком. Разбитной, бабник, похабник, выпивоха, душа-парень. Очень симпатичный мужик. Сам он — секретарь райкома из Челябинской области. Ходили мы с ним на пляж, гуляли вместе. Спрашивает: «Ты откуда?» «Из Биробиджана». «Из жидов приехал? У вас, в вашей жидярне, есть жиды в парторганах?.. Есть?! А мы от жидов в парторганах избавились. У нас правило: жидов и баб в парторганах не держать!»… А что мне? Я привык… Он как еврея увидит, аж зеленеет от злости: «У, жиды пархатые, ненавижу!» А так — мужик симпатичный, компанейский…
Абрам Кравец — человек тихий и желающий быть незаметным. Он умеет быть невидимым. В толпе стоит сзади и сбоку. На собрании сидит в углу, за спинами. Сидит, мусолит сигаретный мундштучок, на стены поглядывает: вот — портреты, вот — лозунги, вот — президиум, а я — где? Спросят его — кивнет головой; то ли «да» сказал, то ли подтвердил: слышу, мол.
В сорок втором году дрался Абрам в морской пехоте под Керчью и Новороссийском, потом выводил своих матросов из окружения. Где-то встретился ему отряд во главе с кадровым майором. Абрам предложил майору вместе пробиваться к своим. А майор говорит: «Пойдем врозь, легче будет пробиваться». Прикинул Абрам майорово направление. Выходило: майор к немцам в плен идет! Абрам ему по горячке и сказал: «Куда же вы, мать твою, претесь, товарищ майор? Не к немцам ли в плен?» Майор за пистолет: «Ты-ы, жидовская морда, твои братья в Ташкент сбежали!»
Абрам из боев не выходил, Абрам в окружении дрался, горяч был Абрам. Руку в карман шинели сунул и навскидку саданул майора в упор.
Когда майора закопали, Абрам скомандовал: «становись!» Объединил отряды и из окружения вывел.
По дороге Абрама тяжело ранили. Очнулся в госпитале и вскоре узнал, что матросов его давно разбросали по разным частям и фронтам, что двое майоровых солдат донесли: вот, мол, лейтенант не подчинился и майора убил.
Лежал Абрам на госпитальной койке, и ходил-навещал его следователь из военной прокуратуры.
За тяжелое ранение в штрафбат не отправили, а разжаловали в солдаты и ордена сняли. Объяснили: «Скажи спасибо, что не расстреляли. Твое счастье, что ранен был тяжело. За убийство старшего командира да за сведение личных счетов в боевой обстановке — знаешь, что полагается?»
И опять Абрам дрался с немцами, как дрался в Керчи и Новороссийске. Дрался он с немцами и за себя, и за отца с матерью, погибших в Одессе, и за любимую, сожженную где-то.
Новым тяжелым ранением под Братиславой смыл с себя Абрам подлую майорскую кровь, вернули ему ордена, офицерское звание и демобилизовали. Женился Абрам, окончил институт в Москве как раз, когда опять стали эшелонами отправлять евреев в Биробиджан — с оркестрами, со знаменами. Ему, члену партии, фронтовику, приказали ехать, укреплять кадры в Еврейской автономной области.
Привез Абрам в Биробиджан жену и сына. Зажили. Опять горел и кипел в работе, как, бывало, на фронте. А в сорок девятом году, к самому Новому году, Абрама арестовали. И — до пятьдесят шестого, семь лет.
Вернулся Абрам из лагеря тихим и незаметным. Так и живет: мундштучок посасывает и головой кивает.
Весело и радостно жили тунгусские божки со своими тунгусами. Рыбу гнали в низовья, зверя уговаривали: «Приходи, умка, дай убить себя людям. Люди-тунгусы голодны, людям-тунгусам мясо нужно». Тунгусы медвежьим салом божков мазали, мясом угощали, рыбой. Жили все привольно и счастливо.
Чужие, пришедшие в тайгу, не понимали ни по-человечьему, ни по-звериному и пахли по-другому. А разве это люди, если они пахнут не по-людски?
Тайгу чужие вырубали. Тайгу вырубили — куда таежным духам деваться? В тайге места много, только не пускают к себе духи Ина и Кульдура, это их угодья.
Остались бирские и биджанские божки на прежнем месте. А тунгусы ушли вверх по Амуру, где тайга гуще и зверя больше.
А духи остались. В воздухе, в травах, в кустах и меж деревьев, в реках и на сопках — остались они вокруг городов и поселков, построенных чужими на месте прекрасной, гордой и умной тайги.
Ждали духи. По одному, по два пробирались в дома и в бараки. Присматривались к душам пришельцев: много в душах этих нетунгусов пустого, незаполненного места. Что-то было там, да выпростали пришельцы свои души и ждали теперь: что же заполнит?
И духи тунгусские вселились. Все влезли, все нашли себе местечко.
Они втеснялись, толкались, примащивались и приживались к чужим, плохо пахнущим нетунгусам. Влезали, пристраивались и выталкивали то, что пахло не по-тунгусски. Появились у пришельцев привычные божкам заботы: хлеба — нужно, рыбы — нужно, зверя — нужно. «Значит, уладимся, не пропадем! То, чужое, плохо пахнущее, выносите совсем. Без него сытнее, вкуснее и комаров меньше».
И маленькие, толстенькие, весело хохочущие тунгусские божки, божки тайги, духи рек и сопок, урочищ и перевалов остались в домах и душах нового, но уже не чужого и все вкуснее пахнущего племени. Поселялись прочно в просторные, освобожденные для них пространства пустых душ, располагались, радуясь приволью, и даже научились лениться. Широкие скулы, узкие глаза, пасть, алчущая жратвы, да толстое брюхо. Широкие застывшие скулы, узкие неподвижные глаза. Все.
За годы Советской власти создано три Биробиджана. Биробиджан-1, собственно город; Биробиджан-2, поселок за железной дорогой; Биробиджан-3, кладбище. «Первый» Биробиджан строили энтузиасты тридцатых годов. Они очень радовались своему делу. Они празднично плясали и прыгали по первой асфальтированной улице, что шла от вокзала к театру. Потом они исчезли; некоторые легли в фундамент «третьего» Биробиджана. «Второй» Биробиджан, построенный по ту сторону железной дороги, существовал недолго. Нетерпение людоедов, лакомых до человеческого мозга, было велико. Они выловили жителей «второго» Биробиджана и, выев мозг, отправили тела на «третий» Биробиджан.
Нынешние Биробиджан-1 и Биробиджан-2 побеждены Биробиджаном-3, зарастают могильной травой. Стучит по крышке гроба теплый дождь, сыплется в могилу.
«Глубокую могилу выкопали для Мойше, не хватит земли, чтобы засыпать. Таскают песок из соседней кучи… Мойше нет, посоветовать некому. Что ж мне делать? Совсем готово все, и смотр на носу, а надо переделывать. Да как переделать? Это не я ведь придумала, это Всеволод Иванов. Тогда были другие времена! Вот он и говорит: „Сейчас другие времена, и потому — ложьте!“ Как можно? Это нарушение исторической правды! А он: „Правда у нас одна — служение делу партии и народа! Историческая правда здесь ни к чему — ложьте!“… Мойше звонил или не звонил в крайком? Он заболел, а я не зашла к нему. Дела закрутили,.. побоялась?.. А черт их знает! Куда я денусь? Вот если бы Шапиро!.. А что Шапиро? Шапиро не наш, Шапиро из Комсомольска привезли. На областную конференцию доставили: „Вот, мол, вам! Пусть не говорят теперь, что в ЕАО секретарь не еврей!“ Из секретарей парткома в секретари обкома — карьера!.. Что Шапиро? — Кассович сказал: „Ложьте!“… Звонить теперь самой? Или лучше поехать? А может, отказаться от „Бронепоезда“? Так ведь смотр на носу! Потом тот же Кассович влепит выговор — „за срыв участия русского народного театра в смотре самодеятельности“. А может, положить на рельсы русского вместо китайца? Пусть смеются; не все и знают, кто должен на рельсы ложиться. Зато спокойно: выполнила приказ Кассовича, приказ обкома… Но что было бы, если б он не пришел, не посмотрел, а пошло бы так, как есть — китаец на рельсах! Ведь тогда!.. Так я хоть решить что-то могу… А не любили покойного Мойше — никто из руководства не пришел на похороны… Ехать или не ехать? Скажут: жалуешься! Да ведь я только спросить хочу!.. Ах, жаль, Мойше умер, он бы позвонил и узнал. Он — ни при чем, и я ни при чем! Не вовремя умер Мойше, не вовремя!..»
Где-то водятся паучки-кровопийцы; они высасывают из живой жертвы кровь, а скорлупу бросают; пустую жестяно-шелестящую под ветром скорлупу… Тунгусский шаман заарканил оленя на полном скаку и костяным ритуальным ножом надрезал на горле оленьем главную жилу. Брызнула кровь, и шаман припал синими губами к ране. Бьется олень, а шаман сосет кровь. Напился шаман, утерся, замазал лечебным составом рану. Полегчало оленю и, вздрогнув от шлепка, он гордо понесся к стаду… На белом снегу шипит горячая кровь…
Как из желтого сделать красное? Горькую желчь как превратить в разбавленный сироп?.. Порез слева; искромсана вера, обрублена надежда, изнасилована любовь. Теперь справа: и не стало прошлого, порвались связи… Хрипит под ножницами жесть. Звякнула о камень. Небо опустилось, загустел воздух, покачнулись коричневые стены. Хохочет хам, расставив ноги. Сошлись под углом две раны, зацепились рваными краями. Рукой в брезентовой рукавице зачерпни масляной краски, замажь блестящие края! Горит краска, шипит на солнце… Мойше, видите? Это ублюдок!.. В лужице возле могилы отражается в свете луны распятый звездой «могн-довид»…
Плачет, плачет скрипочка: а-а-а! Оторвали от любимого, измучили, убили душу. Вот я вернулась, а его нет. Здесь он жил, здесь пел, здесь говорил, что любит меня. Я вернулась, а души моей нет. Плачу я, а слез нет.