Лиловые люпины
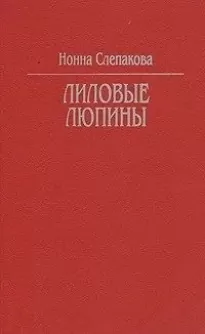
- Автор: Нона Слепакова
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 1999
Читать книгу "Лиловые люпины"
Кормушка для голубей
Мы были до того ошарашены этим определением, что никто не сказал ни слова, — наоборот, все опустили глаза, делая вид, что ничего не слышали. Одна только мать подняла лицо к трем березам, росшим над могилой деда, и, прижимая пальцем к переносице алюминиевую проволочку-перемычку очков, разглядывала рас-хлобыстанное в ветвях среднего дерева большущее воронье гнездо, которое через два года погибнет вместе со всеми березами в наводненную бурю.
— Престранное сооружение, — резюмировала она с великосветским недоумением и тронула за плечо подвернувшуюся Жозьку: — Как ты полагаешь, Жозефина, что можно делать в таком гнезде?
Жозька зашлась беззвучным, распирающим хохотом и, преодолев его, ответила в тон:
— Я полагаю, тетя Надя, — высиживать птенцов.
И пошел общий разговор о воронах — сколько лет они живут, по скольку птенцов выводят, как легко обучаются говорить, что могли бы рассказать обо всех виденных здесь похоронах особо древние птицы. Так все, не сговариваясь, старались замять чрезмерно пряное впечатление от «элегантной могилы».
Но это в тот момент. А впоследствии «элегантная могила» сделается прозвищем тети Лёки на целых тридцать пять лет, до самой ее смерти в нервно-психиатрическом интернате, короче, богадельне, где она скончается при явлениях нарастающего старческого маразма, состоящего в воровстве полотенец у соседок. Тетя Лёка, хорошо помня, что у каких-то сотрудников с ее «старой работы» очень длинные руки, которые могут достать ее и в этом «фешенебельном санатории» за то, что она оставила ту работу, «кое-что интересное о ней зная», не припомнит даже имени своего Игоря, — он вскоре после нашего кладбищенского похода вернется в Харьков к своей жене-ровеснице и маленькому сыну.
Но тогда я, не подозревая, что вижу Игоря в первый и последний раз, всю обратную дорогу до ворот оживленно болтала с ним, повеселевшим оттого, что тетя Лёка повисела у него на шее. Говорили мы, конечно, о стихах. Оказалось, что Игорь коллекционирует все поэтические редкости, которых не найдешь в книгах, в том числе и надгробные строки Бенедиктова, и мой текст, точнее, стихотворную догадку о тексте танго «Дождь идет». Польщенная, я отошла от Игоря к Жозьке лишь перед самой церковью. Предстоял еще один, самый приятный, кладбищенский ритуал — кормление голубей в нарочно выстроенной здесь для этого кормушке, — не зря мы с Жозькой дома запасливо набили карманы хлебом.
Кормушка, собственно, была большой, вытянутой в длину против церковного крыльца, помпезной беседкой. Стройные чугунные столбы, под самой крышей неожиданно бессильно свешивавшие свои лилиевидные навершия, поддерживали ее железный навес, а желто-синий шахматный кафель ее пола, такой же, как в нашей парадной, отгораживала от посетителей невысокая решетка. По полу, приподнятому на солидном каменном фундаменте, бродили, хотя уже ощутимо смеркалось, самодовольные толстые голуби. Странно было, что для них, таких обыкновенных, обильно расплодившихся по городу с тех пор, как выяснилось, что они — символ мира, возвели некогда столь роскошную беседку. Еще страннее выглядели зачем-то нацепленные кое-где на железные шишки решетки знакомые венки-вязанки, разноцветные ленточки, одинокие парафиновые розаны… ведь кормушка, не могила!
Мы с Жозькой, навалившись животами на решетку, стали бросать голубям хлеб. Взрослые ждали нас в стороне, у кладбищенских ворот, стояли кучкой, о чем-то разговаривая, смирившись, — что ж поделаешь, такова наша традиция: в семейном альбоме существовала еще довоенная фотография, где мы с Жозькой, двух-трехлетние пигалицы в одинаковых капорах с петушино-сборчатыми рюшиками, кормим голубей в этой беседке, просовывая куски сквозь решетку снизу.
В это время за спинами у нас ударил церковный колокол и начал жиденько побрякивать с большими перерывами. Я оглянулась и увидела, что дверь церкви открыта и в нее поодиночке вползают старушечьи фигурки. Должно быть, начиналась вечерняя служба.
Бывая на кладбище, я всякий раз просилась у старших зайти в церковь посмотреть, что внутри, но, как правило, получала в ответ что-нибудь вроде «Еще чего придумаешь! Тут тебе не цирк!» или «Обойдешься, времени и так в обрез». Сейчас, пожалуй, подворачивался отличный случай все же заглянуть туда: наши в стороне, спрашиваться не у кого, может, даже и не заметят. Я бросила Жозьке: «Погоди, я сейчас», прыжком взлетела на церковное крыльцо, нырнула в двери и встала, прислонясь к косяку.
Я простояла там каких-нибудь три минуты, но успела ухватить, урвать основное впечатление, как порою урывала общий образ новой книги, когда уже слышалось материно: «А мамзель опять за чтением!» То была мерцающая темнота, пробитая точками раздробленного живого МОЕГО и насыщенная сладковатым запахом сизого клубящегося дыма, густой, распевный, окающий мужской голос, читающий что-то русско-нерусское, и дребезжание слабенького женского хора в паузах (скорее всего, пели одни старухи). А главное, мне удалось ощутить полную отстраненность и неразрешенность всего этого для меня, отчего особенно хотелось разведать, что здесь все-таки происходит и чем привлекает. Я уже хотела выйти, когда меня вдруг схватила за рукав какая-то старуха в длинном и темном.
— Нет, деточка, ты не уходи, постой, уж коли пришла. Это, значит, тебя, деточка, ждут, тебя, деточка, зовут.
— Правда, ждут, зовут уже, наверно, потому и надо бежать.
—: Нет, деточка, потому и не надо бежать.
Испугавшись почему-то ее ласковых слов, я рванулась в дверь и невольно вытащила ее за собою на крыльцо. Тут я ее разглядела. Она была очень высокого роста, в черном ватнике, простроченном ромбами (такой же ватник с художественной строчкой сшила себе сразу после войны мать). Из-под ватника до самых ступней спускалась узкая и прямая черная юбка. Голова, кругло и туго обмотанная темным платком, для такого длинного тела казалась слишком маленькой, как у змеи. Да и в лице ее, хотя и старом, дрябловатом, с четкими и мелкими чертами, сохранилась миловидность, тоже словно змеиная, узкая и зловещая.
Меня и в самом деле уже ждали и звали: все толпились вокруг Жозьки и, видно, расспрашивали ее, куда я делась, гневно вертели головами, осматриваясь. Когда я сбежала с крыльца к кормушке, отец, направив на меня указательный, зачастил:
— Это-это-это хра… хра…
— Храбрая, Мишеньк, говоришь? — попыталась перевести тетя Люба. — Правильно, тольк вот не чересчур ли? Так и лезет куда не требуйтся, гляди, скор совсем обнаглейт.
— Нет, это-это хра… храм, — отчего-то боязливо вымучил он.
— Ты что, орясина, в церкви была? — спросила бабушка грозно.
— Ну, была. Минуточку только и пробыла.
— Прошу убедиться, — сказала мать, — ее так и тянет в любую грязь, к любым, с позволения сказать, отбросам.
— Да генуг вам ее костерить, — великодушно вступилась тетя Лёка, — хватит. Имейте снисхождение к детскому возрасту. Недоросток еще, недоумок, вот все и любопытно, даже и в храм не грешно заскочить, ладана понюхать. Малявке простительно.
— Моя Жозефина еще и моложе, а не заскакивайт, — возразила тетя Люба.
— Жозефина всегда была взрослее, нацеленнее на реальную жизнь, — ответила тетя Лёка. — А Никанора у них в развитии задержалась, ну и мечтает себе, дурешка.
Я почувствовала, что тетя Лёка по отношению ко мне избрала какую-то новую тактику. Вместо того чтобы, как всегда, восхищаться тем, как я выросла и «оформилась», она теперь явно старалась преуменьшить мою зрелость, а главное, умственные данные. Потому она и стала снова называть меня давнишним, детским прозвищем — «Никанорой».
— Вот и ты, — погладила она по плечу Игоря, — такой же у меня мальчишечка. Как только тоже в церкву сбегать не ухитрился? Коллекционирует что-то вечно, собирает, в книжечку заносит. Благо хоть стихами, а не марками увлекается, а то бы сущий кляйн хунд, щеночек девятого класса! С Никанорой серьезно собеседует. Небось, Жозефину на это не подцепишь.
Жозька только плотнее налегла на перила решетки, повторяя сосредоточенно: «Гули-гули-гули-цып!»— и подтверждая тем самым свою «нацеленность» на реальное дело, пускай и маленькое. Я тоже принялась крошить голубям завалявшуюся в кармане горбушку и краем глаза вдруг заметила рядом с собой ту старуху.
— Попитай, попитай их, деточка, может быть, это тех, убиенных, душеньки смертное место помнят, — пробормотала она что-то непонятное, достала из-за пазухи розовую ленточку, совсем как для косичек, и привязала к ограде. — Посчитаем-ка, сколько тут голубков. Двадцать должно быть… Нет, всего нынче четырнадцать. Не все, наверно, слетелися.
— А почему должно быть двадцать?
— Потому что расстрелянных батюшек, детка, было ровно двадцать.
— А чьих батюшек?
— Эх, дитя мира, дитя нового времени, — как-то по-книжному укорила она меня. — Ты не знаешь самого простого. Батюшки — они всем батюшки, священники, значит. Их тогда осенью, в ноябре, двадцать со всего города собрали, сюда вот привезли и в ночь расстреляли.
— А почему расстреляли?
Она передразнила:
— А почему, а почему… А потому! А потому, что жизнь такая! После переворота это было.
— После какого переворота?
— В семнадцатом году, когда все ставили с ног на голову. Только памятуй, детка, голове это вредно, кровь к ней прильет, голова и лопнет. Так вот, казнили их здесь, здесь же и зарыли.
— А почему здесь? — не унималась я.
— Место глухое, а тогда еще глуше было. Кладбище — чем не место? Могилой больше, могилой меньше. Удобно. Да народ все одно разведали где, и потом эту часовню им народ и отгрохали. Все памятное место, почитаемое, хоть и с фальшью, что кормушка для голубей. Видишь, народ вешают здесь венки, цветочки воскладывают.
Сзади давно уже подошла бабушка и слушала наш разговор.
— Ну, ты, — с неслыханной даже мною, совершенно уличной грубостью ошпарила бабушка старуху, — кончай свою пропаганду поганую, кончай моей девке отраву в голову пихать!
Шея старухи внезапно вытянулась, словно желая выпрыгнуть из ворота ватника. Сейчас вся она окончательно уподобилась змее, которую долго, может быть, всю жизнь, дразнил хлыстиком заклинатель и додразнил, — она разъярилась, готова была распрямить свою потайную пружину и, наконец, броситься. Сощурив глаза, старуха вбрызнула, казалось, в них весь свой яд и взглянула этим ядом на бабушку, свою, должно быть, ровесницу. — Девушка, понятно, не макана, — зашипела она, — и не на ней грех, на тебе, старой. Или и ты нехщёная?
— Отчего ж, крещеная, — ответила бабушка. — Кого тогда спрашивали, — окунали несмышленышами, только не все, видно, как я, потом своим умом до правды добрались, не все слепоту с себя свели. Молодым хоть бельма не насаживай, мокрица ты церковная. А как меня окунали, я того не помню, да и помнить-то не желаю.
— Что ж, ты и с мужем невенчана жила, и не отпевала никого?
— Мужа не отпевала, ему бы за такие пережитки работа памятник не поставила, а венчаться венчалась, не злоехидствуй, в девятисотом году венчалась, у князь-Владимира на Петроградской. — Бабушка неожиданно всхлипнула. — Гаврила-то в черном сукне, я-то в белом атласе, к кушаку часы золотые цепкой привешены. Подходим к аналою, а хор ка-ак грянет: «Гряди, гряди, голубица!». Ох, — решительно прервала она себя, — разнюнилась я из-за тебя, кошки ризничной. На то вы и метите, так и ловите, кто зазевается. Ладно, пошла прочь и больше не встречайся.





