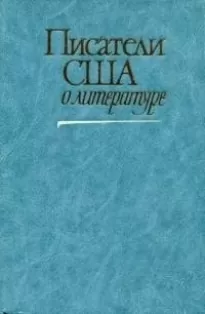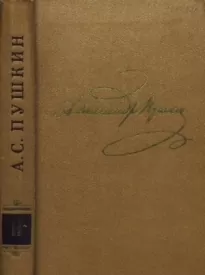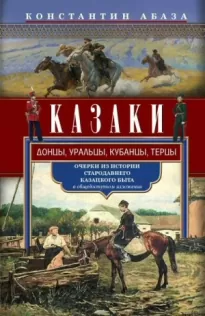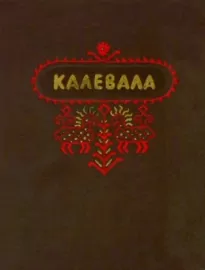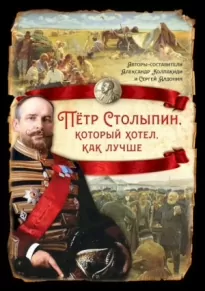Женщины в Иране, 1206–1335 гг.
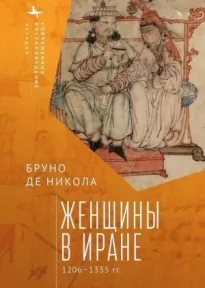
- Автор: Бруно де Никола
- Жанр: Востоковедение / История: прочее
- Дата выхода: 2022
Читать книгу "Женщины в Иране, 1206–1335 гг."
Женщины и политические вопросы в доимперские времена
Из ста женщин, которыми я владею, нет ни одной, которая бы мне действительно нравилась. У одной есть понимание, но я не повелеваю обликом ее рук и ног. У другой руки и ноги хороши, но я не повелеваю ее пониманием, и нет красавицы, которая была бы услужливой, искусной и обладала бы пониманием [Rachewiltz 1994,1: 92; Thackston 1998: 51].
Приведенные выше строки в «Джами’ ат-таварих» Рашид ад-Дин приписывает вождю кочевников дочингизидского времени Сарик-хану. Они, как представляется, изображают сценарий, в котором женщины активны и независимы до такой степени, что Сарик-хан, кажется, не может найти ни одной, которая олицетворяла бы идеал женщины как «услужливой, искусной и обладающей пониманием». Однако персидские источники иногда противоречат друг другу, когда речь заходит о событиях, связанных с женщинами в доимперской Монголии. Особенно это касается Рашид ад-Дина, у которого восхваления независимости и мужества монгольских женщин сопровождаются заявлениями о том, что монгольские мужчины при этом вынуждены были искать женщин покорных [Rachewiltz 1994, II: 791–794; Boyle 1971:168–169]. Это противоречие, намой взгляд, следует рассматривать как следствие конфликта интересов между персидским историком и его монгольским покровителем Газан-ханом и более общего процесса аккультурации монгольской элиты в рамках исламо-персидской культуры, происходившей в Иране во второй половине XIII — начале XIV века [Aubin 1995; Melville 2003]. На самом деле, всего за несколько абзацев до приведенной выше цитаты к Сарик-хану, после победы в битве над татарским племенем, обращается женщина (Табарай Каян) [Rachewiltz 1994,1:91; Thackston 1998: 51] из побежденного племени, говоря следующее: «Мы [татары] завоевали и высокое, и низкое. Если все станут малыми, почему бы и нам не стать малочисленными, а если все развалятся, почему бы и нам не развалиться на куски?» Другими словами, она говорит о том, что каждый может пострадать от перемены судеб [Rachewiltz 1994,1: 91][46]. По словам Рашид ад-Дина, Сарик-хан ответил: «„Эта [побежденная] женщина говорит правду“, и по этой причине он [Сарик] перешел под защиту другого хана» [Rachewiltz 1994, I: 91; Thackston 1998: 51][47]. Так, всего в нескольких абзацах мы видим два совершенно разных подхода к отношениям мужчин к женщинам, исходящих от одного и того же человека. Первый — это несколько «мачистская» жалоба на женщин как пол, тогда как второй — неявное признание мудрости конкретной женщины, происходящей из другого, побежденного племени. Представлены два различных представления о политическом участии женщин, что служит неплохой иллюстрацией трудностей, сопряженных с интерпретацией источников при рассмотрении роли женщин в политических делах монголов.
В доимперской Монголии — то есть до коронации Темучина как Чингисхана в 1206 году — действия и роли как его матери Оэлун, так и первой жены Бортэ описываются как решающие факторы в обеспечении политического превосходства Темучина в степях в конце XII века. Однако монгольская женщина, которую первой упоминают источники, причем она не просто упоминается по имени, но и описываются различные аспекты ее жизни, — это некая Нумулун. Она представлена как мать Кайду, шестого предка Чингисхана и первого монгольского вождя, который, по-видимому, объединил различные монгольские племена [Rachewiltz 2004: 284]. Несмотря на путаницу с именем ее мужа [Там же: 283–284], все источники сходятся относительно ее имени и в том, что она была матерью Кайду. Ее историю с особым интересом описывает Рашид ад-Дин. Когда ее муж умер, восемь ее сыновей (или семь, согласно «Тайной истории монголов») женились и уехали в качестве «зятьев» с семьями своих невест, оставив ее в одиночестве [Rachewiltz 1994,1: 229; Thackston 1998: 119]. Впрочем, о том, долго ли она оставалась одна, нам неизвестно; нет сведений о том, что Нумулун (или Монолун) снова вышла замуж, мы знаем, что она по-прежнему занималась семейным имуществом и пастбищами. На самом деле не было бы ничего странного в том, что женщина оставалась одинокой после смерти мужа [Rossabi 1979: 160].
Нумулун сыграла важную роль в переговорах в условиях неустойчивого политического равновесия в степях. Рашид ад-Дин упоминает, что группа джалаирских монголов избежала уничтожения после кампании против них, проведенной китайским императором [Pelliot, Hambis 1951: 65–66]:
Семьдесят из них[48] [джалаиров] бежали со своими женщинами и детьми и пришли на территорию Монолун [Нумулун], жены Дутум Мена. Поскольку они страдали от голода, они вырвали из земли и съели корни растения под названием сюдюсюн, которое употребляется в пищу в том регионе. От этого поступка место, где сыновья Монолун гоняли своих коней, стало «ямчатым» и неухоженным. Монолун спросила: «Зачем творите такое?» Тогда они схватили Монолун и убили ее [Rachewiltz 1994,1: 230–231; Thackston 1998: 119].
Это указывает на роль Нумулун как высшего политического арбитра семейной и общественной группы: она не только занималась управлением материальными благами, но ее вмешательство требовалось и по отношению к враждебным племенам. Так случилось, что она не смогла нейтрализовать агрессию и в результате была убита. Неожиданное прибытие джалаиров могло стать причиной того, что мы не находим конкретных упоминаний о каком-либо сопротивлении со стороны Нумулун. Повествование Рашид ад-Дина становится несколько запутанным, когда речь заходит о судьбе этой группы джалаиров и мести сыновей Нумулун [Rachewiltz 1994,1: 230–231; Thackston 1998:119–120]. Как бы то ни было, только один из сыновей Нумулун (Кайду) остался в живых после схватки, в то время как мужчины семидесяти джалаирских семейств были убиты, а их женщины и дети отданы Кайду в рабство: «С того дня и по сей день члены этого рода стали наследственными рабами и достались Чингисхану и его потомкам» [Rachewiltz 1994,1:231; Thackston 1998:119][49]. Убийство Нумулун оставалось в сознании монголов по крайней мере до начала жизни Чингисхана, когда было сказано, что
[Нягучяр][50] и несколько всадников отправились в место под названием Олягяй Булак в окрестностях Саари Кяхара, юрты Чингисхана, чтобы украсть живность из дома Джучи Тармала из племени Джалаир, потому что некоторые из них убили жену Дутум Мена Монолун [Нумулун] и ее сыновей и взяли в плен предков Чингисхана [Rachewiltz 1994,1: 237; Thackston 1998: 159–160].
Таким образом, Нумулун не только при жизни играла роль в политическом устройстве степей, но и сохранилась в качестве социальной стигмы в сознании чингизидов, а ее судьба послужила для оправдания агрессии по отношению к другим монгольским племенам во время объединения монголов Чингисханом.
Кроме этого случая, примеры других женщин — современниц Темучина служат яркой иллюстрацией широко распространенного участия женщин в политических делах. Среди племенных групп, которые будущий Чингисхан заставил подчиниться во время объединения монголов, есть две, которые заслуживают особого упоминания по разным причинам. Первая из них — народ, обычно называемый кераитами, одно из племен, в связи с которым в источниках упоминается больше женщин, что объясняется их широкими брачными связями с чингизидскими монголами [Dunlop 1944: 276–289; Hunter 1989–1991: 142–163] (рис. 4.1). Кераиты были самой могущественной группой кочевников в Монголии в ранний период жизни Темучина. Они помогли ему спасти свою жену Бортэ после того, как ее похитила другая группа монголов (меркиты), а позже они вместе вели кампании против таких общих врагов, как татары[51]. Но отношения между этими двумя союзниками начали ухудшаться, когда предводитель кераитов (Онг-хан) решил не делиться добычей со своими чингизидскими союзниками после того, как они уничтожили меркитов. Кроме того, правитель кераитов отклонил прошение Темучина о браке между дочерью Онг-хана (Чаур-беки) и его сыном Джучи[52], что было явным оскорблением чести Темучина. Тем не менее нам рассказывают, что сначала будущий Чингисхан не жаловался, но после того, как ему удалось победить некоторые из соперничающих племен с помощью Онг-хана, он порвал с ним, основными причинами назвав эти два инцидента [Rachewiltz 1994,1: 389; Thackston 1998: 188]. Несмотря на этот первоначальный союз и последующую вражду между последователями Чингисхана и кераитами, женщины последней группы стали очень важны в последующем развитии империи, выйдя замуж за сыновей и внуков Чингисхана. Это может быть причиной того, почему так много кераитских женщин упоминается в источниках по доимперскому периоду монголов. Для этого периода монгольской истории приводятся имена как минимум шести кераитских женщин, не считая тех, которые стали женами сыновей Чингисхана[53]. Одна из них (Алак Йидун) была женой кераитского военачальника, которая после начала вражды между кераитами и монголами играла роль советника и доверенного лица так же, как в источниках изображены Бортэ и Оэлун по отношению к Темучину [Rachewiltz 1994,1: 373; Thackston 1998: 185][54].
Вторая группа, в значительной степени представленная в источниках как имеющая влиятельных женщин в этот доимперский период, — это найманы. Одна из ее представительниц, Гюрбясю-хатун, упоминается как та, которая стала руководить своим народом и противостояла растущей власти Темучина в степях около 1203 года. Существуют противоречивые сведения о ее отношениях с номинальным найманским правителем Таян-ханом. Согласно Рашид ад-Дину, она была любимой женой Найман-хана, который получил ее в жены по левирату после смерти своего отца, что было обычной практикой у монголов и евразийских кочевников того времени [Rachewiltz 1994,1: 127; Thackson 1998:68][55]. В «Тайной истории…» упоминается, что Гюрбясю-хатун была матерью Таян-хана [Rachewiltz 2004: § 189]. Какими бы ни были отношения между ними, ученые согласны с тем, что она была фактическим правителем народа найманов [Ratchnevsky 2003: 83; Rachewiltz 2004: § 194; Nicola 2010]. Ее положение среди найманов подчеркивает любопытное отношение к роли женщин в политике и близость к религиозным делам[56]. Она изображена как «суровый» правитель по сравнению с «мягким» характером Таян-хана, у которого «не было ни мыслей, ни навыков, ни интересов, кроме соколиной охоты» [Rachewiltz 2004: § 189: 67; § 194]. Когда в 1203–1204 годах найманы увидели монголов, идущих им навстречу, Таян-хан решил отступить вопреки желанию своего сына Кючлюга. Один из высокопоставленных чиновников Таяна, видя трусость хана, спросил его: «Как ты можешь терять мужество, когда еще такое раннее утро? Если бы мы знали, что ты потеряешь мужество, разве мы не должны были привести твою мать Гюрбе, хотя она и женщина, и поручить ей командование войском?» [Там же: § 194].
Однако следует отметить, что слово «женщина» в этом отрывке из «Тайной истории…» употребляется неоднозначно. Несмотря на то что в приведенной выше цитате выражено пожелание, чтобы во главе армии вместо мужчины-начальника стояла найманская женщина Гюрбясю, это может быть не более чем пренебрежительным способом сказать, что даже женщина будет командовать армией в бою лучше, чем трусливый хан. Однако тот факт, что военачальник упоминает именно Гюрбясю, а не просто «женщину», как в других частях «Тайной истории монголов», оставляет открытым вопрос о том, в какой степени сама Гюрбясю рассматривалась как возможный альтернативный правитель и военачальник [Kahn 1996: 104]. В конце концов, Чингисхан победил найманов и фактически включил их в состав своих владений. Но чтобы закрепить интеграцию этого племени, он взял в наложницы Гюрбясю, что указывает на ее значимость среди соплеменников мужа. Таким образом, найманы были символически ассимилированы в генеалогию монголов[57].