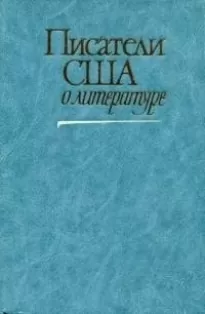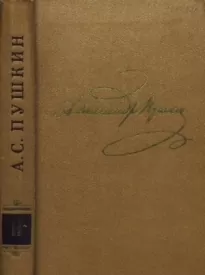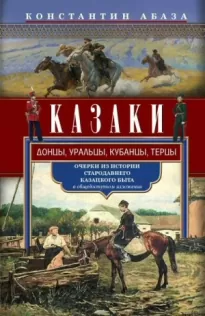Женщины в Иране, 1206–1335 гг.

- Автор: Бруно де Никола
- Жанр: Востоковедение / История: прочее
- Дата выхода: 2022
Читать книгу "Женщины в Иране, 1206–1335 гг."
Глава 5 Монгольские женщины и религиозные верования Евразии
Хотя существует обширная вторичная библиография, посвященная различным аспектам религии в Монгольской империи [Gronke 1997; Bausani 1968; Calmard 1997; Cordier 1917; Jackson 2009; Khazanov 1994; Roux 1984], уместно подчеркнуть тот факт, что у монголов был свой собственный набор верований и религиозных практик, обычно именуемых шаманизмом, которые разделяли большинство кочевых обществ Северной Азии. По мере роста империи собственная религиозная среда монголов вступала в непосредственный контакт с религиозной средой завоеванного населения. Эта встреча выявила не только сходства и различия между ними, но и сыграла свою роль в формировании религиозного ландшафта Монгольской империи. В этом контексте в настоящей главе рассматривается взаимодействие женщин и религии в различных областях империи в XIII и XIV веках.
Это столкновение между монгольским пониманием религии и религиями покоренного ими населения вызвало изменения в верованиях как монгольских правителей, так и подвластного им населения, и возникшее в результате этого взаимодействие этих двух групп интерпретировалось по-разному. С одной стороны, некоторые ученые считали, что монголы эксплуатировали религию в политических целях[319]. Отношение завоевателей рассматривается как управляемое realpolitik, когда религия поощряется или преследуется просто для того, чтобы контролировать подвластное население. С другой стороны, некоторые ученые полагают, что доим-перское мировоззрение монголов могло сыграть определенную роль в том, что они отдавали предпочтение той или иной религии или, по крайней мере, той или иной секте или школе в рамках данного вероучения. Как это обычно бывает с историческими трудами, оба аргумента, похоже, имеют прочные основания в зависимости от того, где и когда историки искали доказательства.
Начиная с противостояния Чингисхана и шамана Теб-Тенгри на раннем этапе становления империи, монголы осознавали политическую угрозу, которую могли представлять влиятельные религиозные лидеры для политического могущества монгольских ханов [Khazanov 1994: 16, 21]. Когда Чингисхан прибыл в Бухару во время первого монгольского вторжения в Центральную Азию, он вошел в мечеть в пятницу, выгнал оттуда духовных лиц и заявил с кафедры, что он здесь потому, что он есть «кара Божья» [Qazvini 1912–1937, I: 28–29; Boyle 1997, I: 39; Rachewiltz 2004: § 245]. Нам никогда не узнать наверняка, действительно ли Чингисхан произнес эту речь, но изгоняющий релизигиозных лидеров с кафедры хан — это впечатляющий образ, использованный персидским историком Джувайни, который иллюстрирует влияние монгольского завоевания на религии Евразии [Qazvini 1912–1937, I: 103–105; Boyle 1997, I: 80–81; Rawshan, Musavi 1994,1: 499–500; Thackston 1998: 246–247; Atwood 2004a: 254].
Несмотря на этот пример, в целом считается, что монголы были терпимы к верованиям населения, предоставляя свободу культам и отдавая предпочтение религии, если ее последователи не бросали вызов политическому господству монголов [Jackson 2004; Atwood 2004а: 238; Morgan 2007: 199]. Однако выборочное покровительство по отношению к верованиям как способ господства над завоеванным населением также известен на территории империи [Katz 2002: 165][320]. Эта стратегия применялась, например в Иране, где христиане и даже евреи занимали важные посты в администрации, по крайней мере до обращения Газан-хана в 1295 году [Boyle 1968: 369–370]. Однако для Монгольской империи также было характерно неприятие ее правителями религии в любой институционализированной форме. Возможно, причиной этого была стратегия монголов, направленная на предотвращение создания религиозными лидерами каких-либо политических структур, которые могли бы соперничать с властью императора. Возможно, в этом отношении присутствовал и внутренний монгольский компонент, уходящий корнями в исконный шаманизм, тенгрианство Сибири и Монголии[321]. Под «шаманизмом» здесь мы не имеем в виду концепцию, выдвинутую Мирчей Элиаде в его знаменитой работе [Eliade 1964]. Напротив, «шаманизм» здесь относится к группе религиозных практик, которые применялись в среде монголов в XII и XIII веках [Humphrey 1994: 191–192]. Функции шамана (бёё или бёге) или шаманок (идуган или ид уян) не были четко определены во времена Чингисхана, или же просто имеющаяся у нас информация скудна и запутанна. Ученые сходятся во мнении, что шаманизм не имел организованной церковной структуры в доимперской Монголии и что шаманы были тесно связаны с христианскими священниками, буддийскими монахами и, позднее, мусульманскими шейхами в монгольских ордах [Khazanov 1994: 12].
Отказ от институционализированной религии также объясняет принятие христианства некоторыми монгольскими сообществами, о чем повествует несторианский монах Григорий Бар-Эбрей как о поступке, не означающем подчинение вселенской церковной власти [Togan 1998: 60–62; Dunlop 1944: 277–278][322]. Аналогичным образом, принимая такие «китайские» верования, как даосизм и буддизм, монголы избегали присоединения к институционализированной религии. Этим можно объяснить их ранний интерес к секте даосизма Цюаньчжэнь, исходной ветви этой школы мысли, которая не требовала от хана какой-либо покорности главе ордена[323]. Яркой иллюстрацией подчинения религии власти хана служит путешествие даосского монаха Чанчуня из Северного Китая в Центральную Азию на встречу с Чингисханом. В документе, дошедшем до наших дней, ясно сказано, что старый монах был не просто приглашен, а получил приказ отправиться на встречу с Великим ханом. В «Сянь юцзи» записано, что об отказе учителя не могло быть и речи [Waley 1931: 51]. Таким образом, отношения подчиненности между религиозным лидером и ханом прослеживаются с самого начала: монгольский завоеватель повелевал поступками уважаемого даосского учителя [Там же: 70].
Однако «адаптация» монголов к китайской религии, или, скорее, поиск монголами религии для «монгольского Китая», не было простым делом. Одним из способов, с помощью которого новые правители пытались выбрать религию и одновременно сформировать ее, была организация религиозных дебатов между даосскими и буддийскими богословами[324]. Как представляется, ламаистский буддизм предлагал наилучшие условия для приспособления завоевателей к религиозной среде покоренного Китая. Хотя они отдавали предпочтение ламаизму с момента назначения Пагба-ламы государственным наставником в 1268 году, монголы не пренебрегали и другими китайскими традициями [Rossabi 1989: 144; Ts’un-Yan, Berlina 1982: 479]. Дебаты и меняющиеся предпочтения среди сменяющих друг друга монгольских правителей в отношении различных религий, по-видимому, были факторами, способствовавшими предотвращению возникновения религиозной традиции, обладающей достаточной силой, чтобы соперничать с ханской властью[325]. Был ли этот процесс осознанным или неосознанным, трудно оценить, но он помогал монголам удерживать религию под своей «светской» властью, начиная с Чингисхана и Теб-Тенгри и до династии Юань.
Когда дело дошло до контактов с исламом, повествования о завоевании Чингисханом Центральной Азии подчеркивают двойную стратегию: пренебрежение к у лама[326] и предпочтение конкретных мусульманских ученых [Budge 2003: 382; Qazvini 1912–1937, I: 81; Boyle 1997: 104]. Во время первого вторжения монголы вступили в контакт с исмаилитами Аламута, ветвью ислама, которая обладала и институционализированной организацией, и политическим контролем над территориями в Иране[327]. Отношения между завоевателями и исмаилитами, по-видимому, сначала складывались как военное сотрудничество перед лицом общего врага, султана Джалал ад-Дина (пр. 1220–1231). Но этому политическому взаимопониманию пришел конец, когда монголы решили продолжить наступление на Средний Восток и подчинить себе регионы, находившиеся под влиянием исмаилитов. При правлении Мункэ-хана (пр. 1251–1259) Хулагу предпринял военный поход в Иран, постепенно заручившись поддержкой таких местных династий, как Курты из Герата и кутлугханиды из Кермана. В ходе этого наступления даже исмаилиты отправили к Хулагу послов с изъявлением покорности [Boyle 1997: 303–335; Мау 2004:239; Houdas 1891–1895,1:262; Lane 2003:23]. Персидские источники упоминают, что решение разрушить крепость Аламут было вызвано тем, что Мункэ-хан понял, что «ассассины» исмаилитов начали проникать в монгольские ряды [Habibi 1963–1964, III: 181–182; Ravertyl881:1189–1196; Qazvini 1912–1937, III: 106; Boyle 1997: 617–618; Rawshan, Musavi 1994, II: 974]. Тем не менее, если Хулагу намеревался остаться на Среднем Востоке, то уничтожение исмаилитов преследовало двойную цель. Во-первых, это устранило бы их политическую оппозицию и, во-вторых, обеспечило бы монголам поддержку других местных династий в Иране, тем самым придав легитимность их правлению[328].
Устранение с политической сцены влиятельных религиозных авторитетов открыло Средний Восток для других религий, таких как несторианское христианство и буддизм [Khanbaghi 2006:64][329]. Но удаление институционализированной религии из региона также создало возможность для процветания иных толкований ислама. Вряд ли можно считать совпадением тот факт, что суфизм начал распространяться по Среднему Востоку и Центральной Азии начиная с XI века. С приходом в регион династии сельджукидов (ок. XI–XIII вв.), исламизированной полукочевой ветви тюрков, началось медленное, но неуклонное распространение этого мистического аспекта ислама. Монголы ускорили этот процесс [Lewisohn 1999: 33; Nasiri 1972]. Суфизм, по всей видимости, претерпел постепенную институционализацию, в ходе которой последователи определенного религиозного лидера становились основателями суфийских орденов (тарика, множественное число ту рук), но полностью сформировался только в XIV веке[330]. Со времен правления Тегудера-Ахмада и особенно после обращения Газан-хана в ислам члены монгольской правящей семьи поддерживали тесные отношения с суфийскими наставниками [Amitai 1995: 104].
Подводя итог, можно сказать, что религия монголов до прихода Чингисхана обычно описывается как «политеизм, вера в верховное божество, вооруженное конное божество, почитание Неба, Земли, Воды и Огня, поклонение предкам, медитация в форме шаманских практик, жертвоприношения людей и домашних животных и т. д.» [Khazanov 1994: 12]. Но не менее важным, чем эти практики, было отсутствие институтов Церкви и священства, которые присутствовали в завоеванных ими оседлых сообществах. Возможно, из-за этого примитивного представления о религии и недопущения религиозной оппозиции своему политическому господству, монголы способствовали возникновению новой секты даосизма (секта Цюаньчжэнь), усилили несторианство (менее иерархическую форму христианства, чем его католический аналог), развили тибетский буддизм и поддержали развитие мистических направлений в исламе (суфизм) на Среднем Востоке и в Центральной Азии. Это породило новую религиозную ситуацию, особенно на Среднем Востоке, где религии с небольшим количеством последователей, как, например, христианство или буддизм, могли, по крайней мере на первых порах, завоевать адептов и приобрести привилегии. Это также привело к созданию народных религиозных форм в исламе, которые быстро вошли в контакт с новой правящей элитой. Именно это политическое приминение религии вместе с расцветом ее неинституционализированныхф орм сформировало религиозную среду, в которой жили монгольские женщины.