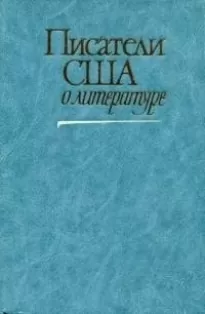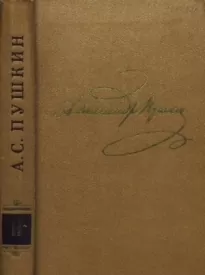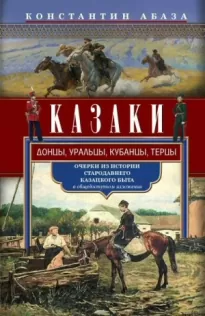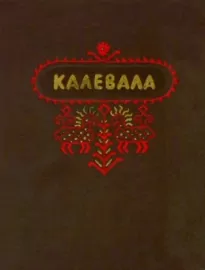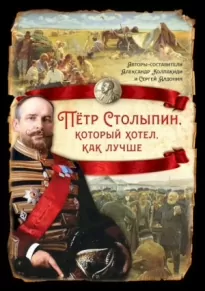Женщины в Иране, 1206–1335 гг.
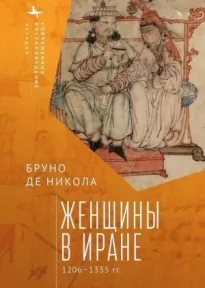
- Автор: Бруно де Никола
- Жанр: Востоковедение / История: прочее
- Дата выхода: 2022
Читать книгу "Женщины в Иране, 1206–1335 гг."
Участие хатунов в степной экономике: Чингисхан и присвоение благ путем завоевания
Хотя благодаря недавним археологическим находкам было документально подтверждено существование сельскохозяйственной деятельности в степи в эпоху Чингисхана, в доимперской Монголии богатство составляли два основных ресурса: скот и люди [Allsen 1985–1987:27]. В то время как Чингисхан покорял своих соперников в степи, процесс систематизированного грабежа, характерный для этого раннего этапа, реализовывался его соратниками и родичами [Allsen 1997а: 27]. Согласно «Тайной истории монголов», этот процесс набирал максимальные обороты в тех случаях, когда Темучин подчинял конкурирующую группировку. Например, сразу после того, как он «разгромил и опустошил» кераитов, будущий Чингисхан начал «раздавать их [богатства] во все стороны», отдавая некоторым из своих союзников в полное владение часть имущества завоеванного народа[247]. Он также отнял у своего побежденного соперника племянниц, женившись на одной из них и отдав другую своему сыну Толую[248]. К отцу этих двух женщин он был милостив и позволил ему сохранить своих людей; он передал под его контроль все ресурсы, принадлежащие ему и его дочерям. В следующей главе «Тайной истории…» подробно рассказывается о разделе кераитов и о том, как они были распределены между союзниками Чингисхана в соответствии с их заслугами в бою и тем, насколько полезны они были в походе [Rachewiltz 2004: § 187][249].
В этой стратегии грабежа и распределения награбленного женщины были частью добычи, а также имели в ней свою долю[250].
В этот ранний период одной из женщин, получивших таким образом значительное богатство, была мать Чингисхана Оэлун. В распределении людей, захваченных Чингисханом, она всегда была в числе бенефициаров. Источники расходятся во мнении относительно ее доли в добыче, и этот вопрос вызвал определенную дискуссию среди исследователей. В «Тайной истории…» говорится, что она получила 10 000 человек, тогда как Рашид ад-Дин сокращает эту цифру до 5000, а еще 3000 человек достаются младшему сыну Отчигину; они, однако, оставались во владении матери, в результате чего ее доля достигла 8000 человек [Rachewiltz 2004: § 242; Thackston 1998,1: 611; 1994: 281][251]. Наличие всех этих людей под их командованием укрепляло военный, а также экономический потенциал правящей семьи, поскольку стада и отары сопровождали завоеванных и вливались в орды семьи чингизидов[252]. Численность животных в источниках не приводится, но справедливо утверждать, что чем больше людей переходило в их подчинение, тем богаче они становились. Оэлун всегда получала больше людей, чем остальные члены семьи. Определяющим фактором было ее положение матери правителя.
Однако она была не единственной женщиной в семье Чингисхана, получавшей людей в качестве военных трофеев. Его жена Бортэ имела орду и по крайней мере иногда получала таких пленных. Примечательно, что в этом плане она не упоминается ни в китайских, ни в персидских, ни в монгольских источниках. Однако Рашид ад-Дин повествует о судьбе тангутского мальчика, которого привели в ханский лагерь, предположительно после набега на царство Си Ся [Dunnell 1994: 206–214]. Чингисхан встретил мальчика (будущего Буда) и был поражен его умом в столь юном возрасте. Для нас интересно то, что после командования отрядом из ста воинов Буда получил повышение и стал «командиром большой орды Бортэ Фуджин» [Thackston 1998,1:137; 1994: 74]. Включение людей в орду Бортэ представлено не в количественном, а в «качественном» отношении. Помимо Буда, в личном уделе Бортэ упоминаются и другие военачальники разного происхождения со всей степи (предположительно, вместе с их иждивенцами и стадами). К ней были приставлены люди из племен сонитов, дорбенов и кераитов, что подтверждает, что она получила часть степного народа, покорившегося ее мужу [Там же: 593; 1994: 272–273]. Там же сообщается о других женах (Хулан-хатун) и некоторых из дочерей Чингисхана (Тэмулэн-хатун и Чечейген), которые распоряжались людьми [Broadbridge 2016: 123][253]. Это позволяет предположить, что, хотя, возможно, только Оэлун упоминается в контексте крупного распределения людей, проведенного ханом среди своих родственников мужского пола, другие женщины в царской семье также участвовали в системе завоевания и распределения людских и материальных ценностей в период становления империи.
История о другой жене Чингисхана дает нам не только дополнительные доказательства существования женских орд и доли хатунов в доходах, полученных в результате консолидации империи, но и некоторые подробности о том, из чего состояло богатство в их лагерях. В «Тайной истории…» и «Джами’ ат-таварих» приводится известный рассказ о том, как Чингисхан отдал одну из своих главных жен, кераитку Ибаху-беки, одному из своих военачальников. Эти две версии существенно отличаются друг от друга [Sneath 2007:175]. В персидском рассказе хан отдал свою жену военачальнику, охранявшему его шатер, потому что ему приснился сон, в котором «Бог» велел ему прекратить свой брак с этой хатун. Однако в монгольской версии это просто рассматривается как награда Чингисхана полководцу, генералу Кехатай, за подавление восстания Джаха-Гамбу [Thackston 1998, I: 197; 1994: 104][254]. Между этими двумя рассказами, безусловно, есть соответствия: в обоих источниках есть схожие упоминания о том, как Чингисхан распорядился имуществом хатунов. Согласно «Тайной истории…», Чингисхан сказал госпоже, прежде чем отдать ее новому мужу: «Твой отец Джаха-Гамбу [Джагамбо] дал тебе в приданое двести слуг; он дал тебе также управителя Ашика Тимура и управителя Алчику. Теперь ты идешь к народу Уруут; иди, но дай мне сто человек из твоих слуг и управителя Ашика Тимура на память о тебе» [Там же]. Рашид ад-Дин также упоминает, что Чингисхан попросил ее оставить ему «одну повариху и золотой кубок, из которого я пью кумыс», чтобы у него были «воспоминания» о ней, когда ее не станет. Но, согласно этому персидскому рассказу, «все остальное, все, что было в лагере, — евогланов, лошадей, свиту, лавки, стада и отары, — он отдал госпоже». Эта история полезна для нас по нескольким причинам. Во-первых, она помогает получить более четкое представление о том, какое имущество было в распоряжении этих дам. Ибаха-беки имела под своим началом людей (не менее 200), подаренных ее отцом; она также владела лошадьми, рабами и скотом, что должно было приносить доход. Во-вторых, примечательно, что оба источника указывают на то, что Чингисхан сохранил часть имущества хатун до того, как ее отправили к новому мужу[255]. С одной стороны, Чингисхан принимает долю как своего рода «плату» за то, что он отдает ее; в то же время уменьшение количества имущества, находящегося в распоряжении женщины, могло быть способом ограничить ресурсы этой женщины и ее соплеменников на случай, если среди кераитов вспыхнет новое восстание.
Рост богатства новой монгольской знати в начале существования империи означал, что женщины стали играть новую роль в экономике. Как отмечает Олсен,
монголы, ранее бывшие обществом с ограниченной покупательной способностью, теперь внезапно оказались обладателями огромного и непривычного для них богатства, а правящие слои, основные получатели добычи и дани, были склонны к типичной для нуворишей экстравагантности [Allsen 2001: 9].
Предметы роскоши присутствовали в Степи и до появления империи, но их потребление быстро росло по мере того, как все больше и больше ресурсов оказывалось в руках хатунов[256]. Обращение изящных изделий при Монгольском дворе иллюстрирует следующий рассказ. Когда Угедэй отдал бедняку пару жемчужин, принадлежавших его жене Муге-хатун, в обмен на две дыни, люди подумали, что хан сошел с ума. Бедняк не имел представления о ценности жемчужин, но хан предсказал, что они очень скоро вернутся к его жене. Человек продал жемчужины по дешевке на рынке, а их покупатель решил, что раз они такие красивые, то заслуживают того, чтобы их подарили императрице, поэтому он вернул жемчужины ко двору, и таким образом пророчество хана исполнилось [Banakati 2000: 388; Qazvini 1912–1937, I: 168; Boyle 1997: 211–212]. Накопление таких очень изысканных артефактов, по-видимому, увеличивалось в ордах хатунов по мере расширения империи, в итоге достигнув уровня роскоши среди дам улуса Берке, описанного Ибн Баттутой в XIV веке [Defremery et al. 1962: 485–486][257]. Однако хатуны интересовались не только предметами роскоши. Китайские источники описывают покупку муки монгольскими женщинами. Ее нужно было перевозить на расстояние до 1150 километров, но у хатунов не возникло трудностей с оплатой счетов [Allsen 1989: 93].
Рис. 4.1. Кераиты и их связь с семьей чингизидов
Чтобы удовлетворить растущий спрос среди монгольских принцев и принцесс, нужна была какая-то структура, которая обеспечила бы процветание торговли и безопасную доставку купцами своих товаров покупателям[258]. Сведения об отношениях между монголами и купцами в этот ранний период не очень ясны. Кажется, что обе стороны активно сотрудничали, что новая империя стимулировала и защищала торговлю и что Монголия стала новым рынком для торговцев Внутренней Азии [Allsen 1989: 94; Rossabi 1981: 260–261]. Документально подтвержден пример присутствия торговых агентов из Центральной Азии до возвышения Чингисхана: мусульманин по имени Хасан участвовал в походе против кераитов [Rachewiltz 2004: § 182, 657][259]. Согласно Джувайни, образ жизни монголов и нехватка хорошо зарекомендовавших себя купцов означали, что те торговцы, которые добирались до лагерей, могли рассчитывать на высокую прибыль. Приводя в пример барыши, полученные одним предпринимателем по имени Ахмад из Ходжента, Джувайни подчеркивает, какие состояния можно было заработать, привозя «вышитые золотом ткани, хлопок, занданичи и все остальное, что они считали подходящим» для продажи хану и его семье [Qazvini 1912–1937,1: 59; Boyle 1997: 77–78][260].
Тогда как ханы, безусловно, взаимодействовали с торговцами, упоминания о женщинах, контактировавших с ними в этот ранний период империи, немногочисленны. Тем не менее женский капитал был представлен в торговой экспедиции, отправленной Чингисханом в соседнее царство Хорезмшахов в 1218 году (эта экспедиция стала катализатором вторжения монголов в Центральную Азию). Хан собрал купцов и «приказал своим сыновьям, дочерям, женам и военачальникам выбрать мусульман из своих свит и снабдить каждого золотыми и серебряными слитками (балыш), чтобы они могли торговать в земле Хорезмшаха» [Allsen 1989: 88][261]. Это говорит о том, что уже во времена Чингисхана женщины вкладывали деньги в коммерцию с находящимися на значительном расстоянии от них торговыми партнерами, хотя и после смерти Чингисхана в 1227 году торговля все еще находилась в зачаточном состоянии. На границах монгольских владений были назначены стражники для обеспечения беспрепятственного въезда купцов, но это произошло только тогда, когда Чингисхан укрепил свою власть в степи [Qazvini 1912–1937,1: 59; Boyle 1997: 77–78]. До того князья и хатуны обогащались в основном за счет добычи. В этот ранний период богатство женщин заключалось в скоте, лошадях и людях, хотя иногда они вкладывали деньги в торговые предприятия. С приходом к власти нового поколения правителей в 1227 году и привлечением иностранцев к управлению экономика империи расширилась и усложнилась, и именно это предоставило возможность для укрепления экономической роли женщин.