Родители, наставники, поэты
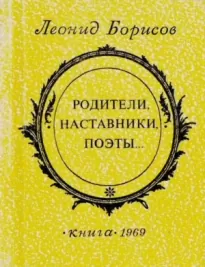
- Автор: Леонид Борисов
- Жанр: Биографии и Мемуары
- Дата выхода: 1969
Читать книгу "Родители, наставники, поэты"
„Ход конем" и его издатель Михаил Алексеевич Сергеев
Невозможно правдиво и точно ответить на вопрос, как, почему, когда начал я писать то-то и то-то. Ходишь, думаешь, живешь, читаешь, беседуешь, а потом вдруг (и вовсе не вдруг, а когда следует, ни раньше ни позже) некая сила тянет тебя к столу, берешь в руки перо, приступаешь к чему-то, что не совсем и самому ясно.
Так не только со мною. Но многие товарищи по профессии толкуют о каких-то замыслах, явлениях идей и сюжетов, заранее знают они, кто будет герой главный, а кто второстепенный и когда роман будет вчерне закончен.
Стендаль рассуждал и отвечал иначе.
Бунин при мне однажды, беседуя с начинающим беллетристом (тогда говорили — молодой, утаивая, что он начинающий), признался, что ему поправилась первая строка какого-то, еще неясного рассказа, пришла строка вторая, третья, припомнилось что-то пз жизни, и на второй или третий день Ивану Алексеевичу открылся и сюжет и суть, и тогда рассказ писался замедленно, что для читателя, естественно, непонятно, и скрыто, и странно: когда писателю все ясно и он все видит, он работает медленнее, чем тогда, когда в голову приходят только какие-то первые строчки...
— Месяц думаю, два вечера ппшу, — сказал как-то Куприн. — И ты поступай так же: крепче и усерднее думай, — тут самая суть, самое главное, тут уже ничего не исправишь.
О своем рассказе «Легкое дыхание» Бунин говорит (в девятом томе собрания сочинений, страница 369): «Рассказ «Легкое дыхание» написал в деревне, в Васильевском, в марте 16 года. «Русское слово» Сытина просило дать что-нибудь для пасхального номера. Как было не дать?! «Русское слово» платило мне .в те годы 2 рубля за строку. По что делать? Что выдумать? И вот вдруг вспомнилось, что забрел я однажды зимой совсем случайно на одно маленькое кладбище на Капри и наткнулся на могильный крест с фотографическим портретом на выпуклом фарфоровом медальоне какой-то молоденькой девушки с необыкновенно живыми, радостными глазами. Девушку эту я тотчас немедленно сделал русской, Олей Мещерской, и, обмакнув перо в чернильницу стал выдумывать рассказ о ней с той восхитительной быстротой, которая бывала в некоторые счастливые мипуты моего писательства».
О своих «Темных аллеях» Бунин писал:
«Перечитывал стихи Огарева и остановился на известном стихотворении:
Была чудесная весна, Они на берегу сидели, Во цвете лет была она, Его усы едва чернели...
Кругом шиповник алый цвел, Стояла темных лип аллея...
Потом почему-то представилось то, чем начитается мой рассказ, — осень, ненастье, большая дорога, тарантас, в нем старый военный... Остальное все как-то само собой сложилось, выдумалось очень легко, неожиданно — как большинство моих рассказов».
...II у больших и у малых художников слова все, в конце концов, внешне весьма похоже; разница в глубине, в мыслях. И в моей жизни были и светлые и черные дни, знавал я большое счастье и непосильную для меня беду. Все это ложилось на сердце, занимало свое место в клетках мозга, ведающих памятью и тем, что сохранению подлежит, а что необходимо забыть.
Нечто совершалось помимо моей воли, «гулял и с виду лепился, а на самом деле незримо для посторонних работал», по выражению Алексея Павловича Чапыгина. Немалую роль в моей «творческой немощи» (как говорил порою о себе Леонид Андреев — в шутку, конечно) играло и продолжало играть мое увлечение книгой, любовь к чтению, моя великолепная память о прочитанном. Что-то из романов стояло в первой шеренге, что-то во второй, что-то все время внутренне цитировалось и чему-то во мие помогало. Словно кто-то ожидал, когда я начну петь, и в нетерпении, желая поощрить, сам приступал к пению.
И что-то происходило в моей жизни, мною еще неосознанное, не отнесенное пи к радости, пи к обычному происшествию, и вот в некую минуту, вступив на Кировский мост (тогда еще Троицкий) 21 февраля 1927 года, я почти вслух прочел какие-то фразы, что-то абсолютно мне еще неведомое, но что вскоре стало началом романа «Ход конем».
Сперва была написана глава, которой думал я начать (хронологически) повествование о моем герое, на войне утерявшем память. Начав главу третью, я убедился, что она будет второй, а вторая первой. Что-то новое и для себя неожиданное увидел я в сюжете, который постепенно начал вырисовываться более картинно и стсреоскопичпо. Дописав главу шестую, я понял, о чем именно предстоит мне писать. Увидел ясно черты героя, даже его внешность.
Я уже понимал, что придется убрать героя моего из жизни — в живых оставить его нельзя, получится натяжка, фальшь, большая ложь, а работать во имя лжи противно и попросту невозможно.
Забавно вспомнить сегодня, каким наивно-требовательным был я к себе: устав от сочинительства (в сущности, роман мой был весь «сочинение», никак не изображение чего-то, действительно происходившего в жизни и мне хорошо знакомого...), посидев за столом часа четыре, а то и шесть, я милостиво разрешал себе выкурить папиросу, немного отдохнуть, растянувшись ла кушетке, с полчаса, а затем требовательно слова брался за перо.
«Нельзя лодырничать, товарищ Борисов!» — говорил я себе.
В начале июня роман был окончен, я переписал его («от руки») дважды. Доброхоты уступили мне свою пишущую машинку. В десять вечеров роман был переписан — в трех экземплярах. В конце июня один экземпляр, по совету моего друга Григория Эммануиловича Сорокина, отнес я в издательство «Прибой».
В те дни, когда его читали (это длилось всего лишь полторы педели), я с чувством облегчения и некоей настороженности вышагивал десятки километров в Озерках, на островах, в Шувалове, Парголове. Чувствовал себя превосходно: я нечто создал, это нечто читают, возможно, что оно станет книгой...
— Пусть читают, пусть, — нескромно рассуждал я, — начав читать, небось, до конца не бросят! Пусть читают, пусть! .Лишь бы какому-нибудь дураку-трусу или ортодоксу не досталось, а ежелп читает человек требовательный, понимающий, умница и сам не без дарования — это очень хороню! Примут. Предчувствие такое: возьмут, издадут, будет у меня книга...
Приняли. Заключили договор, дали денег, рукопись ушла в типографию, и спустя полтора месяца в магазинах появилась моя книга, изданная «Прибоем» .в количестве восьми тысяч экземпляров: по тому времени тираж солидный — обычаю начинающего (да и продолжающего) издавали тиражом в четыре-пять тысяч.
Директор издательства Михаил Алексеевич Сергеев пригласил меня к себе.
— Заодно взглянете на мою библиотеку, посидите, поговорим, — сказал оп, оглаживая свою великолепную черную бороду. — Надо полагать, книги любите?
У Сергеева, знатока Сибири, всегда в работе было богатое собрание литературы по этому краю и о самом крае. Он единственный обладал беллетристикой, выпущенной издательствами частными и государственным с начала Октября, было у пего много книг с дарственными надписями. Показал он мне письма к нему Горького, Шаляпина, Собинова, Леонида Андреева, Амфитеатрова; имелось у него и еще кое-что, о чем оп только намекнул и о чем расспрашивать было бестактно.
Я стал частым гостем доброго, умного, благородного Михаила Алексеевича. Он — мой первый издатель; Клячко, в двадцать пятом году выпустившего мою сказку в стихах «Глупая плита», литературным отцом моим я не считал: «Глупая плита» нс была событием ни для меня, ни для издателя — я писал стихи, они изредка печатались, да и сама фигура Клячко не годилась для высокой роли литературного восприемника. Это был купец, торгаш, лично во мне заинтересованности у него и на грош не было — важна была прибыль от той книжки, которую он издал тиражом в десять тысяч экземпляров, уплатив мне сто пятьдесят рублей (цена одной книжки — рубль). Он даже со мною и не разговаривал, просто заявил, что сказку мою берет, и — все. Я потом с полгода выпрашивал причитавшиеся мне деньги...
Михаил Алексеевич был во мне заинтересован, оп ввел меня в ряды прозаиков. Немного позднее стало мне известно, как нелегко было пройти моей рукописи по всем широким и узким дорожкам, уготованным автору первой книги.
— Рукопись вашу дал я прочесть Сергею Мироновичу Кирову, — говорил мне Михаил Алексеевич, когда по-домашнему отмечался выход моей пятой книги; Сергей Миронович, оказывается, говорил по адресу моей первой книжки очень лестные слова...
Вскоре более лестные, незаслуженно высокие слова произнес Алексей Максимович Горький в письме Ромену Роллану — оно было опубликовано в апреле двадцать восьмого года в десятке газет.
— Вот такое надо вспрыснуть, — сказал Михаил Алексеевич протягивая мне номер «Правды», праздничный для меня в тот воистину табельный день. — И на память об этом событии выбирайте любую книгу вот с этих полок.
Он указал те, где стояла беллетристика «Мысли» и «Петрограда».
— Две берите, — окончательно размяк Михаил Алексеевич, а я подумал: «Сейчас еще одну прибавит»...
— Берите три, — и даже рукой прощально махнул. Что же я взял?
«Мастер Страшного Суда» —Лео Перутца.
«Кубинке» — Георга Германа.
«Зсленая шляпа» — Майкла Арлена.
На взгляд библиофила — книги не уникальные, по сегодня весьма редкие и ценятся не дешевле тех, которые бесценны. Я оставался и остаюсь верен себе: приобретаю то, что однажды позвало и в будущем, наверное, не раз и не два позовет.
Михаил Алексеевич познакомил меня с Шиловым — знатоком старой книги: в годы нэпа он был совладельцем книжного магазина в доме № 72 по Невскому проспекту. «Шилов и Губар» — эта формула звучала приманчиво и не без соблазна. В книжном магазине напротив Троицкой улицы (ныне улицы Рубинштейна) можно было отыскать и то, что для души, и то, что для хвастовства, — вот, дескать, что добыл, посмотрите!
Михаил Алексеевич знал всех продавцов книг — знатоков-букинистов, и его знали все. Слушать, бывало, их разговор было истинным наслаждением для ума и воображения. Михаил Алексеевич называл автора старинной книги, год издания, его собеседник, бородатый букинист, вздыхая, заявляет:
— Знаю, видел, в руках держал!.. У Суворина экземпляр был — новенький, словно только что из типографии. У Десницкого экземпляр имеется.
— У этого чего нет! — кстати замечает Михаил Алексеевич.
— А многого нету, многого, — авторитетно заверяет букинист. — До сих пор самую заурядную литературу покупает. Мне намедни заказал первое издание «Мертвых душ».
— Ну, это для кого-нибудь понадобилось, для подарка, наверное, — говорит Михаил Алексеевич. — Что-что, а Гоголь у Десницкого во всех видах. Библиотека у пего после Демьяна Бедного первая.
— Намечается еще один богатенький собиратель, — эпически, неторопливым топом сообщает букинист. — У пего альманахи — мальчики оближете и с кровью сами себе оторвете!
И целует кончики своих пальцев — с прищепком и (в старину так говорили) «с ярославским присвистом».
— Это вы про кого же? — Михаил Алексеевич собирает лоб в морщины, стараясь представить того, кто «намечается»...
— А про Смирнова-Сокольского, про куплетиста, — ему несут на дом, у него своя агентура по закупке и покупке, — не без зависти сообщает старый, опытный книжный .волк. — Есть у него деньги, и он, давай ему бог долгой жизни, с умом эти деньги вкладывает: кто другой в золото и драгоценности, а этот тоже в драгоценности, но другого толка — и для себя и для потомства, своего и народного!





