100 лет современного искусства Петербурга. 1910 – 2010-е
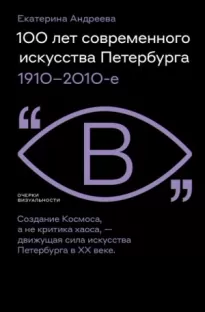
- Автор: Екатерина Андреева
- Жанр: Искусствоведение / История искусства
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "100 лет современного искусства Петербурга. 1910 – 2010-е"
Первый побудительный импульс искусства – желание запечатлеть мир, удивляющий и волнующий своим сказочным разнообразием, своей плотской привлекательностью во всем, от ласкового неба или свежего ветра до животной прелести детей или женщин. Одна из ранних картин Россина – «Первый русский сельский концерт», написанная в 1965 году: буколическая сцена, представляющая, как два козлоногих лесных создания ласкают тетку, привалившуюся к колодцу. Слева и справа от этой группы сидят бабушки, одна из них с гармонью, а невдалеке под березой отдает дань природе еще один участник праздника жизни, которого Россин переселил в свою живопись из ренессансных притч Питера Брейгеля Старшего. Интонация этой картины о свидетелях и участниках жизни как непрестанной оргии чем-то напоминает «Вальсирующих» Бертрана Блие (1974), который лучше всех в кино перехватил летящую и текущую по берегам Сены парижскую эротику, воссоздав в кинокадре атмосферу «Завтрака гребцов» Огюста Ренуара.
Радость – сложное переживание в искусстве Россина, и чаще всего художник представляет не открытое импрессионистическое счастье цветного радужного мира, но «нечаянную радость»: огонек счастья там, где все погружено в печаль, где непонятно, чем держится жизнь – в таком убожестве она проходит. Самой этой нечаянной радостью сохраненного с любовью образа жизни, собственно, и становится его живопись. Она сделана всегда с натуры по сотням потрясающих набросков с неизвестных мужиков и баб, ребятишек, коров и собак, старух и стариков, обитателей специнтернатов, интеллектуалов Ленинграда (участников квартирного философского семинара Татьяны Горичевой и Виктора Кривулина) и даже мух и жучков, населяющих альбомы художника. В искусстве Россина, как в сказке, нет ничего неодушевленного или безразличного, оно все антропоморфно – не для того чтобы подогнать мир под человека, а для того чтобы человек слышал голоса мира.
То, о чем свидетельствует искусство Россина – существование маргиналов, – казалось бы, должно было сделать его модным современным художником. Эти современные герои, собравшись на холстах в небольшой мастерской на улице Репина, узеньком переулке Васильевского острова, выступают в его творчестве как античный хор. Они теснятся вокруг костра истории как всемирной драмы, пожирающей целые народы. В таком пафосе и в самой небывалой возможности одному человеку, без помощников, воплотить столь многие трагические события (войну во Вьетнаме, поимку и казнь Пугачева, преследования церкви времен Гражданской войны в России, геноцид евреев в годы Второй мировой) заключен неоплатный счет современности как прогрессу. В искусстве Россина мы встречаем не популярных в 1990‐е и нулевые «иных» или «других», чьи интересы прогресса ради учитывает общество, на которое можно оказывать влияние, в том числе и через художественную практику. Здесь зритель вступает на территорию мифической вечности – преодоленной смерти, где ничего не проходит и не балансируется, но каждый день начинается как снова вскрывшаяся рана, к вечеру заговоренная ежедневным трудом художника. Поэтому сквозь музейный колорит Рембрандта Россин протягивает экспрессивные изломанные линии человеческих тел и строений, ветвей и холмов, судорогу всего земного рельефа, рождающего каждый день как новое сознание, обремененное задачей жить и выжить, человеческое и животное.
В этом универсализме, с одной стороны, и, с другой, в том, как классические мотивы пронизаны ежедневной судорогой становящегося каждый раз заново мировоззрения – ведь время ускоряется и невозможно в нем мирно и эпически отстроить себя на годы вперед, – Россин предстает как один из ключевых мастеров традиции ленинградского экспрессионизма. Уникальность его позиции в том, что не столько город отразился в его живописи со всем своим петербургским мифом, сколько всемирный охват живописи художника совпал с широким невским горизонтом и вписанными в этот горизонт русскими проклятыми вопросами. Примерно так Достоевский глазами Раскольникова смотрит на Зимний дворец в грандиозной панораме реки и предчувствует надвигающуюся трагедию – не личную, но вселенскую. Муза живописи Соломона Россина – его друг и художница Ленина Никитина, словно бы пришла к нам из мира бедных людей, прожила рядом с нами в раскольниковской комнате – в ее случае это было что-то очень похожее на отрезок коридора, пространства, больно стиснутого стенами и выдыхающего в высоту потолка. Под потолком же висели картины художницы – собрание женских портретов «Товарищи по психбольнице». Любопытно, что на большой выставке Русского музея однажды гуашь Ленины с изображением безумной старухи, играющей на гитаре, была повешена напротив сильно превосходящего ее размерами портрета Сталина. И, пожалуй, трудно было бы найти более удачный экспозиционный ход, чтобы продемонстрировать бессилие власти перед юродским страдальческим куражом жизни, до нитки обобранной этой самой властью, мизерабельной, но каким-то чудом сохранившей свободу быть собой.
Но, конечно, главное петербургское впечатление, совпадающее с общей тональностью живописи Россина, – это сияющий драгоценным убором залов Эрмитаж и встроенная в него самая дорогая, едва мерцающая темная святыня – «Возвращение блудного сына» Рембрандта. Россин повторяет этот сюжет, не опасаясь сравнений, и даже безбоязненно идет по стопам Рембрандта, след в след. Великий художник, как известно, свел финальную точку в восприятии картины к тому моменту, когда мы, путешествуя взглядом, вдруг замечаем пятки скитальца. Именно вид его свалившейся туфли окончательно пронзает сердца болью и кровной теплотой истоптанной и наконец-то пригретой жизни. Россин пишет более органичную для русского глаза старушку, а не старика-отца и меняет весь пояс фигур второго плана: вместо одного из соприсутствующих персонажей в его картине из окна пристройки, крытой шифером, выглядывает лицо коня, приближая эту притчу к иконографии Рождества и тем самым усиливая мотив начала, обновления жизни и одного человека, и всего света. Но главную деталь – подошвы ног – он повторяет, перенося ее в современность. Зритель наших дней перед его картиной, деревенской и поэтому большинству далекой, ведь мало кто заезжает в такие углы, как Верхняя Тойма, вдруг упирается взглядом в подошвы мужских ботинок, городской обуви, написанной с предельной ясностью поп-арта. Такое сальто-мортале визуального опыта может себе позволить только мастер «умного зрения», знающий природу изнутри и целиком, не по облику, а по ее сокровенному устройству. И его точечный удар вызывает культурный шок именно у современного человека, привыкшего к коллажу имиджей и эмоций, из которого Россин вдруг вырезает и прикалывает к сердцу именно тот образ, который способен вывести из небытия и старую культурную память, сделав ее снова живой и актуальной, и житейский опыт поколений, рванувшихся в города в поисках лучшей доли.
Читая по следам выставку Россина, обходя зал за залом от «Урока рисования» до «Реквиема» и обратно, зритель не может не ощутить намеренного противостояния огромного – особенно по меркам действительно подпольного нонконформизма 1970‐х – начала 1980‐х годов – масштаба этих картин и огромного количества изображенных на них всеми способами скрученных, согбенных, буквально приземленных персонажей. Мало кто из героев «хоровых» картин Россина стоит твердо: в вертикальный масштаб художник безоговорочно вписал лишь Льва Толстого, своего любимого писателя, и партизанку Таню. Все остальные люди, скоты, города и села демонстрируют свою конечность, свою утлость. Но эта конечность, эта беззащитность перед временем и смертью, которую искусство разделяет с человеком, у Россина совсем особенного рода. Россин ждет от зрителя, как, впрочем, требует и от самого себя, усилия распознать в собственной тварности черты нетленного: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное».
Мераб Мамардашвили в те годы, когда Россин писал свои самые грандиозные картины, так объяснял мироздание по Гераклиту, вечно движущуюся материю, образ которой часто используется для оправдания релятивности бытия. Мамардашвили как раз говорит о том, что релятивности у Гераклита отнюдь не было:
Вместе с Гераклитом мы установили, что историческая структура человеческого бытия состоит в том, что есть во времени вперед становление или поиск смысла, который уже есть, установили, что как бы сцепились какие-то обстоятельства, и история и есть то, что происходит в качестве взаимного прояснения одним обстоятельством другого на определенной форме. Эту форму Гераклит назвал гармонией. Есть гармонии, и есть пульсирующая сфера или сгорающие миры Гераклита… Состояние, метафорически называемое огнем, есть состояние держания мира, состояние усилия, – оно пульсирует, оно исчезает, вновь появляется… Какая-то конечная форма должна быть целиком сызнова, должна исполнять на себе бесконечность… Следовательно, то конечное, которое могло бы давать бесконечное, есть какое-то особое конечное.
Особость такого конечного Мамардашвили уподобляет загадке, разгадывая которую живешь:
загадки, в смысле того, в чем мы участвуем, и что есть условие нашей жизни… и что продолжает жить, пока за этим стоит страсть, эмоция, напряжение, вертикальное стояние, или вертикальное бодрствующее состояние, которое на своей вершине держит, несет дление93.
Особые конечные формы или тела, раскрывающиеся в бесконечность, по словам Мамардашвили, поддерживают «очаг исторической конструкции человеческого существа и человеческих связей», который зажигается от таких «символических тел»94.
На выставке Россина «Отчий дом» видишь и дом во всех его ипостасях (храм, застенок, хибарку, дворец, хижину), и мир. И поражаешься изначальной и последовательной символической устремленности художника. В 1960–1980‐е годы Россин шаг за шагом противопоставлял ложной символической связи соцреализма, казалось бы, неотменимой государственной культуры, законы которой распространялись на всё и на всех, свою картину мироздания, карту истинных связей, географических и исторических, личных и общественных, пока весь корпус его живописи не стал таким особенным архипелагом конечного в бесконечном, который конструктивно собрал и увековечил российский ХХ век в бескрайности мирового искусства.





