100 лет современного искусства Петербурга. 1910 – 2010-е
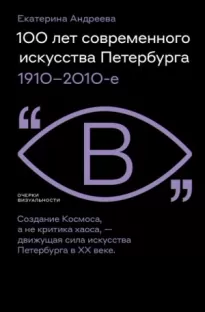
- Автор: Екатерина Андреева
- Жанр: Искусствоведение / История искусства
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "100 лет современного искусства Петербурга. 1910 – 2010-е"
Сокуров. Молчание
…Насилие можно определить как то, что говорит мало или не говорит вовсе. Жиль Делёз
Фильмы Александра Сокурова трудно разобрать на составные части: звук здесь может работать изображением, невидимое входит в ткань кадра и оборачивается зримым как слышимым. Но и слышимое само по себе призрачно: звуковая дорожка несет шумы как голоса мира, многократно приближаясь к молчанию. Молчание долгих планов растит образы и картины, интерактивно питаясь зрением оператора и временем зрителя. Фильм действует подобно человеческому мозгу, который способен в экстремальных ситуациях делегировать функции одного отдела другому. Сокуров убеждает своего зрителя в том, что чувствование и понимание осуществляются не только благодаря зрению и слуху, а и благодаря какому-то еще другому, дополнительному свойству человеческой природы и мира в целом. Режиссер словно бы вдруг начинает показывать кино, снятое слепым оператором и озвученное немыми актерами, с одной только целью – проверить границы легендарного умнóго зрения, духовного восприятия человека, ощутить присутствие этого навыка: с нами ли он или утрачен в процессе эволюции. Умнóе зрение ведет за пределы произведения искусства и за ограничения личности к восприятию бесконечности мира. Однако же сама возможность такого восприятия, его открытость чувствам человека признается отнюдь не всеми. Поэтому изначальное, а именно молчание и незримое, то, что было до слова и до света, лежащее за границами регистрируемого опыта, Сокуров выбирает точкой отсчета своего парадоксального кинематографа.
В исполнении сразу же намеченной сверхзадачи режиссеру поначалу помогают тексты Андрея Платонова, чьи слова с одной ровной отстраненной интонацией далекого наблюдателя, говорящего при этом чуть ли не из глубин существа каждого читающего, могут выражать и несказуемый ужас жизнесмерти, и несказанную красоту мира. Первый фильм Сокурова был поставлен в 1978 году по мотивам прозы Платонова и назывался «Одинокий голос человека». Звучание этих трех слов создает акустическое пространство, в котором конструируется соотношение «фигура – фон», то есть голос восстает на фоне молчания мира. И этот восстающий, восставший голос формирует свою землю, приоткрывает источник, откуда он проистекает, и устремляется в высь, куда он обращен самой судьбой. Молчание мира, словно сценическая коробка, обретает невидимое нутро, непоказываемое, и виртуальный, мыслимый выход в беспредельность. В сущности, именно так структурированы многие фильмы Сокурова, которые при всей сложности своего пространства растянуты между двумя незримыми и неслышимыми загадками жизни каждого существа и явления: между тем, что ему предшествовало, из чьих смертей и жизней оно возникло, и преддверием его собственной смерти или бессмертия. Апогей и финал «Одинокого голоса человека», посвященного памяти Андрея Тарковского, – это разделенная на два эпизода притча о герое, который решил испытать, есть ли смерть, пройти запретным путем сквозь этажи прошлого, настоящего и будущего. Герой, некий Дмитрий Иванович, обуянный практической жаждой нового мира, ныряет в реку, как в смерть, подвергая умнóе зрение экспериментальной проверке. Вопросы, которыми он задается, звучат и в душе каждого время от времени и являются мотивом народного религиозного чувства, выраженного, например, в поверьях русской секты «бессмертников», полагавших, что смерть – это «неудача неумелых», отсутствие правильной психотехники, позволяющей продлить жизнь и перевести ее в новое качество. На фоне недвижной реки и уходящих в сумрак берегов человек рассуждает, словно бы убеждая самого себя: «Смерть не тесная, я не верю, что она вообще есть… Всю жизнь покоя не дает, что там». Здесь от собеседника к нему приходит сомнение: «Да нет там ничего хорошего. Так, чернота, как здесь». Аргумент, требующий безоглядной веры в смерть как свободу выбора бессмертия, подавляет это сомнение: «Если там плохо, почему тогда никто от смерти не отказался?» Сокуров вслед за Платоновым оставляет этот вопрос открытым, лишенным ответа, вводя еще один древний мотив. Тайну мироздания, смерти и жизни можно узнать единственно ценой вечного молчания, перехода в инобытие: «Рыба между жизнью и смертью стоит, оттого она и немая, что тайну смерти знает». Герой ныряет, и вторая половина фильма наполняется «чернотой» – зрелищем городской толпы, облепившей трамвай, кошмаром скотобойни, огромным отражением искаженного лица мужчины, который вглядывается в зеркало реки, где пыталась утопиться его жена. Внезапно подступает конец, герой возвращается такой вот рыбой, нить фильма резко обрывается последним молчаливым обретением зрелища туманных берегов, глотком влажного воздуха, нечленораздельным звуком. И так возникает второй модус понимания молчания: оно необходимо, чтобы в тишине различить дыхание жизни. Молчание – признак знания смерти, поэтому лишь в абсолютной тишине мы слышим, истинно ли дышит жизнь.
Спустя десятилетие Сокуров переходит от интонации Платонова, от новейшей истории, которая заглубляется в эпос, потому что делающие ее люди еще мыслят в категориях почти что первобытных, к исследованию нашей современности и того момента, когда цивилизованное общество начало соскальзывать в эпическую бездну. В 1990 году он снимает «Круг второй» – едва различимый на экране фильм о молодом человеке, который приехал хоронить отца. Сокуров с документальной точностью воссоздает состояние пространственного и звукового удушья, в котором человек, утративший своего близкого, пытается сделать в честь покойного какие-то осмысленные поступки, обеспечивающие ему бессмертие. Обморочное пространство позднесоветского быта – комната умершего в бараке, всегда погруженная в темноту, – здесь напоминает могилу, из которой и участники действия, и зритель в конце концов высвобождаются нечеловеческим усилием (одни физически, другие в своем воображении, подвергнутом насилию зрелища), когда гроб с примотанным к нему покойником проходит сквозь тесный дверной проем. Зритель «Круга второго» словно бы наощупь выстукивает стенки могилы-жизни, натыкаясь то на безучастного мертвеца, то на сбивчивое обсуждение прейскуранта бюро похоронных услуг, достойного антологии черного юмора. Слова здесь, как падающие сверху комки глины, грязнят тишину смерти абсурдным активизмом – наживой жизни, которая выглядит ничем иным, как хороводом вурдалаков. Через два года в этом же бесцветном мраке Сокуров материализует почти сто лет как умершего исторического героя – А. П. Чехова. В фильме «Камень» (1992) он позволяет Чехову возникнуть в собственном доме-музее в Ялте на глазах у юного ночного сторожа. Как в «Солярисе», Чехов возвращается определенно не в новую жизнь, а со всем скарбом прежних желаний, чувств и привязанностей в дурную бесконечность повторений. По ночному дому за ним бегает, разрывая тишину и черноту резким криком, невесть откуда возникшая птица – клон того ручного журавля, который запомнился писавшим о Чехове мемуаристам. Клон писателя также обретает речь, чтобы сообщить своему сторожу неутешительные сведения о загробном мире: «Я там никого не видел… Там слишком много этажей». Сокуров выбирает именно Чехова героем своей абсурдистской картины, потому что ему надо теперь предметно представить смертельную безысходность как одну из возможных форм бессмертия. Жизнь, глохнущая и задыхающаяся от мертвых форм, от своих собственных материальных и виртуальных отходов, – это та же смерть, но лишенная всякого величия и загадочности. «Чеховский» способ прервать смертное молчание в «Камне» – спросить на всякий случай за столом, а не осталось ли колбасы, ведь ее было так много, неужели всю съели? Словно бы пленку прокрутили назад, и герой, скончавшийся от апоплексического удара за столом на страницах чеховского рассказа, воскресает в новых, еще более пошлых советских обстоятельствах, и его, мертвяка, чревоугодие побуждает исследовать окрестности могилы – вот тема, описывающая советский быт со времен Н. М. Олейникова.
В «Камне» структурировано особенное двоящееся пространство: лицо Чехова и лицо близко сидящего к нему за столом юноши искажены, как два отражения в сходящихся плоскостях. Этот эффект нескольких пространств, пересекающих кадр, или эффект мира, который треснул, подобно зеркалу, Сокуров использует и позднее, акцентируя мимолетный, проплывающий отражением, нестойкий образ жизни. Он сводит в одном кадре «Камня» два существа старой и новейшей России. И его, конечно же, не может не занимать историческая середина, оставшаяся за этим сгибом времени.
Основные фильмы Сокурова, созданные на рубеже ХХ–XXI веков, посвящены главной драме столетия – революции в России, спровоцированной Первой мировой войной, и нацизму в Европе, провоцирующему Вторую мировую войну. В трилогии о Ленине, Гитлере и Хирохито Сокуров выводит образы трех властителей, трех обреченных на бессмертие духов экстремального политического творчества. В «Тельце» повествуется об одном дне из жизни больного Ленина, который тщетно пытается восстановить свою власть и, убедившись, что это невозможно (символ политической смерти вождя – молчащий телефон), требует у Сталина яду. Развитая в «Круге втором» и «Камне» тема безысходной жизнесмерти здесь возносится на головокружительную высоту судьбы сверхчеловека и обрывается в глубь распада личности, утраты рассудка. Сокуров, наподобие Данте и, если искать русских предшественников, Даниила Андреева, строит иерархии духов, блуждающих через жизнь и смерть. Если Чехов скитается в замкнутом кругу обывательского мира с его мимолетным счастьем чистой рубахи и собственного домашнего зверинца, которое оборачивается мечтой о том, чтобы вырваться куда-нибудь во что бы то ни стало (а вырваться можно только в творчество), то Ленин накануне своей смерти ужасающе лишен человеческих черт и обречен разрушать и быть разрушенным. Его гибнущий мозг волнуют два взаимосвязанных вопроса: как удержать власть и как умереть, если это не выйдет. Он маниакально стремится прервать земное существование в надежде обрести более высокую и проникающую степень власти над миром. Живой и мертвый, он притягивает к себе и источает насилие. Ленин просит Крупскую читать о телесных наказаниях в царской России («молчание поротого – знак смерти») и резюмирует: террор в России – единственная точка опоры. Как усовершенствованная репрессивная машина в Горках и появляется неразговорчивый Сталин.
Выход из удушающего молчаливого духовного застенка Сокуров также указывает. Круг насилия разрывает лишь созидательный творческий акт. К манифестациям творчества, по Сокурову, относится и само полное волнующего света мироздание, и чистая праведная жизнь, формирующая культуру. Эту истину являет судьба императора Хирохито в «Солнце». Властителя-Солнце подданные (высшие государственные и военные чиновники) призывают сопротивляться до конца, сжечь себя и врагов, и страну, объятую ужасом и мраком. Хирохито, на протяжении фильма погруженный в сосредоточенное молчание, как в медитацию, выбирает путь отказа от власти, утрачивая свой божественный статус ради даруемого людям, и себе в том числе, света жизни. Об этом жертвенном исходе в свет, молчаливо обнимающий все живое, режиссер снимает в 1999 году на стыке художественного и документального кинофильм «Dolce», рассказывающий историю семьи японского писателя Тосио Симао (1917–1986). Мелодраму, богатую сценическими возможностями, он сворачивает и медленно начинает открывать, будто старый выцветший свиток. Симао, начинающий писатель, в 1940‐е годы готовит себя к исполнению подвига камикадзе. Его летная база расположена на райском острове, где он встречает и успевает полюбить девушку. Рок отводит от влюбленных угрозу быстрой смерти, чтобы подвергнуть их длительным страданиям: жена Симао читает его дневник и, узнав об измене, сходит с ума. Одна из двух дочерей вследствие шока теряет дар речи, и ее тело перестает развиваться. Писатель забирает детей и переселяется к жене в сумасшедший дом. Все эти события излагает ровный голос рассказчика на фоне визуального ряда из фотографий и открыток, видимых как будто из-под волн, из‐за теней деревьев и проплывающих облаков. Дальше рассказчик уступает место старой женщине, которая оказывается дочерью писателя, пережившей смерть родителей и обреченной заботиться о своей больной сестре. «Свиток» рассказчика заканчивается, и камера зависает перед старушкой, вбирает в себя ее нисходящую в шепот молитв и жалоб речь, вид из окна и скользит по стенам дома. На лестничной площадке камера ловит вторую героиню фильма – гротескную девочку-старуху, спускающуюся обнять сестру. Она не произносит ни слова, и кажется, что голосу главной героини вместо нее отвечает немолчное дыхание ветра. Кажется также, что камера как наблюдатель молчаливо исследует «шрамы» от душевных ран, нанесенных женщинам судьбой. Чем дальше движется фильм, тем яснее эти следы на лице главной героини становятся сладчайшими стигматами любви. Сокуров снимает старческое лицо и руки, подернутые морщинами и рябью пигментных пятен, обращая их в драгоценные мерцающие жемчужины, источники внутреннего света. Эстетизм Сокурова превосходен, потому что режиссер способен показать, как через тленные оболочки обреченной жизни временами мерцает прекрасный свет жизни истинной, свет любви и творческого духа. Но неумолимое молчание-затихание «Dolce» вмещает в себя как несказáнность красоты, так и общемировую невысказанность боли – такую форму принимает бесконечность Сокурова.





