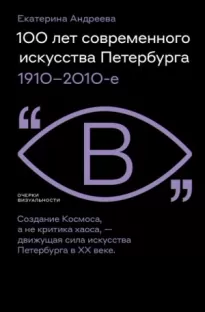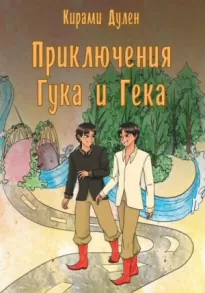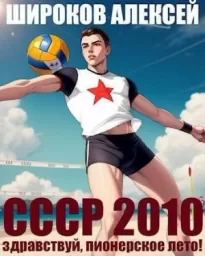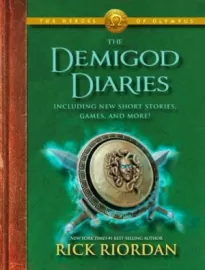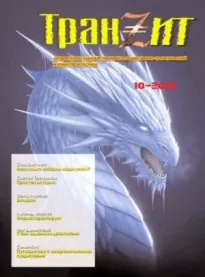Тет-а-тет. Беседы с европейскими писателями
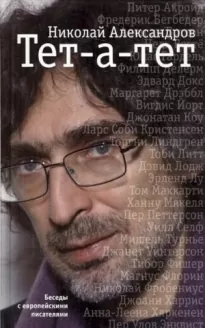
- Автор: Николай Александров
- Жанр: Публицистика / Литературоведение
- Дата выхода: 2010
Читать книгу "Тет-а-тет. Беседы с европейскими писателями"
Вы знакомы с Малькольмом Брэдбери?
Да. Когда в 1960 году я пришел работать в Бирмингемский университет, я был там единственным молодым сотрудником и единственным преподавателем современной литературы. Года полтора спустя появился Малькольм Брэдбери, его специально взяли вести курс американской литературы — правда, он и другие вещи преподавал. У нас обоих тогда было по одному опубликованному роману, мы оба пытались сочетать университетскую карьеру с писательством. Малькольм Брэдбери к тому же много занимался журналистикой. Он был немного старше меня, опытнее как писатель. Он оказал на меня немалое влияние. Мы работали вместе лет пять и, само собой, подружились; у нас обоих были маленькие дети, наши жены тоже подружились. Так удачно совпало, что мы оба находились на одной и той же стадии в профессиональном смысле. Благодаря ему я, наверное, начал писать комические вещи. Первые два романа у меня были достаточно серьезные, реалистические, вполне типичные для так называемых «сердитых молодых людей», писавших в Британии в 50-е годы. Речь там шла о провинциальной жизни и тому подобных делах, присутствовала и связь с католицизмом. Малькольм тогда много писал для «Панча», знаменитого английского юмористического журнала. У него был талант юмориста, комического писателя. Он и меня увлек идеей попробовать себя в этом стиле. Мы даже сотрудничали с ним, вместе написали тексты для двух, как их называют в Англии, театральных ревю. «Всякая всячина», «Скетчи и куплеты» — это были вещи сатирические, комические. Мне понравилось, я обнаружил, что у меня есть к этому некая тяга. «Падение Британского музея» (British Museum Is Falling Down) я написал, пожалуй, в результате знакомства с ним. Это первый из моих романов, который можно назвать юмористическим в широком смысле слова. Писался он с целью позабавить, обратить внимание на комическую сторону явления, которое на первый взгляд может показаться для этого неподходящим, — я говорю о запрете, налагаемом католической церковью на искусственные способы предохранения. Мне в этом виделось несколько новое отражение вечной комедии сексуальных отношений. То время было очень плодотворным — полагаю, для нас обоих. В наших беседах рождались идеи, мы обсуждали друг с другом свои произведения и так далее. Наверное, бесконечно так продолжаться не могло: два автора университетских романов на один университет — это слишком много. Нет, вопрос о выборе не стоял, просто случилось так, что Малькольму предложили более высокую должность в новом университете, в Восточной Англии, в Нориче, и он решил туда перейти — после долгих колебаний, но все-таки перешел, в 66-м или 67-м году. Мне его не хватало, хотя мы и продолжали довольно часто видеться, но от Бирмингема до Норича путь неблизкий… Мне не хватало ежедневного общения. С другой стороны, я понимал, что продолжать работать в одном и том же университете нам было невозможно. Нас до сих пор путают, даже теперь, после его смерти, все равно путают. На мое имя приходят письма в Университет Восточной Англии, люди думают, что это я в Восточной Англии. Наверное, с этой путаницей уже ничего не поделать. Сами посудите: два молодых человека, оба пишут романы об университетской жизни, оба занимаются литературной критикой, у них один и тот же издатель, один и тот же агент. Как-то раз я поехал в командировку в Университет Восточной Англии, и мне дали его комнату, с его именем на двери, отчего путаница только усилилась. Впрочем, мы к этому привыкли. На самом деле, если не считать университетских романов, книги мы писали весьма разные. Малькольм был, по существу, человеком абсолютно секулярным, либеральным гуманистом. Он неловко чувствовал себя в церквях, разве что когда заходил туда просто как турист, когда там никого не было и ничего не происходило — это ему нравилось. Но… Мне его сильно не хватает. Он умер слишком рано, всего 69 лет… Да, мне его не хватает.
Чем была для вас преподавательская работа?
На мой взгляд, преподавание, особенно в университете, поначалу приносит большое удовольствие. В первые годы для тебя это — нечто новое: наконец после стольких лет, проведенных на пассажирском сиденье, ты сам садишься за руль. Кроме того, ты волей-неволей и сам постоянно чему-то учишься, надо ведь держаться впереди студентов. И потом, стараешься разнообразить жизнь, придумываешь новые курсы, тем самым не только студентов, но и себя заставляя читать новые книги. Однако чем дольше преподаешь, тем более неизбежно повторение — приходится ведь в какой-то степени преподавать все то же, ждать, пока они все научатся тому же. Что касается меня, я под конец своей преподавательской карьеры столкнулся с дополнительной проблемой. Я начинал глохнуть, поэтому мне становилось все труднее преподавать в режиме взаимодействия, к которому я привык. Я понимал, что слишком много говорю, поскольку не слышу, что говорят студенты. Из-за всего этого преподавание стало приносить мне меньше удовлетворения. Примерно тогда же я начал пользоваться большим успехом как писатель. К тому же я расширил свой спектр — у меня появились пьесы, телесценарии. Какое-то время я оставался профессором на полставки: один семестр читал лекции, один был свободен. И обнаружил, что свободное время, время, проводимое за писательской работой, нравится мне больше, чем преподавание. Причина тут, наверное, в том, что идеальных преподавателей не бывает. Попробуй быть идеальным преподавателем, ты и двух недель не протянешь — особенно работая в системе, где от тебя требуется заниматься столькими различными предметами, с таким количеством студентов в такие короткие часы. В каком-то смысле все делаешь, что называется, не сполна. Понимаете, каждый час перед тобой стоит задача максимально выложиться, все происходит очень-очень быстро, а потом чувствуешь сильнейшее разочарование. Тогда как, занимаясь творческой работой, романом или телесценарием, сосредотачиваешь все свое внимание на чем-то одном, пытаешься добиться, чтобы вышло как можно лучше. А потом, закончив, берешься за что-то другое и добиваешься, чтобы и это вышло как можно лучше. Я обнаружил, что… что мне хочется продолжать заниматься работой такого рода, а не тем, неизбежно несовершенным, трудом, цель которого — лишь подтолкнуть молодой ум к его собственным открытиям. Понимаете? В общем, все эти годы мне нравилось преподавать, но я был рад, когда появилась возможность уйти — причем в подходящий момент.
Как вы считаете изменилось ли что-нибудь для писателей — университетских преподавателей со времен Набокова с Якобсоном?
Когда я подавал заявление на работу в качестве преподавателя в университете, я не упомянул о том, что у меня вот-вот должна выйти книга. Мне казалось, что это может подорвать уверенность в серьезности моих научных намерений. Теперь-то, конечно, университеты принимают авторов с распростертыми объятиями — писательское мастерство стало отдельным предметом. Университеты понимают, что сложился соответствующий рынок, что курсы писательского мастерства пользуются большим спросом как среди студентов, так и аспирантов. Одним словом, сегодня писателю в университете работать легко, это становится все более популярным делом. К тому же в британской академической системе раньше было принято выдавать диплом по результатам выпускных экзаменов, которые сдавали по окончании третьего курса. Так решался вопрос о дипломе. Теперь наша система гораздо больше напоминает американскую или европейскую, где существуют так называемые модули: прослушал небольшой курс, получил за это какие-то баллы, прослушал другой, получил еще баллы, а в конце все суммируется. В рамках такой системы писателю гораздо проще прийти и прочитать какой-нибудь курс по контракту, а потом снова вернуться к своей работе. В мое время это было невозможно: либо ты преподаешь в университете, то есть работаешь на полную ставку, либо нет, и все. Короче говоря, теперь ситуация упростилась, литературный мир и мир академический стали, на мой взгляд, взаимодействовать активнее — это с одной стороны. С другой стороны, существует, мне кажется, большая разница между критикой и тем, как книги рецензируются, как они воспринимаются публикой. Литературная критика стала высоко специализированной, в ней царит профессиональный жаргон, непонятный обычному человеку. Тем самым в каком-то смысле литературный и академический миры сблизились, в каком-то — разделились еще больше.
Какая филологическая составляющая должна быть в настоящем романе?
По-моему, любой хороший роман обязан достигать нескольких целей одновременно. В нем должна присутствовать некая структура, многоуровневая система значений, не раскрывающая весь смысл сразу. Я понимаю — как ученый, или бывший ученый, — что книги произрастают из других книг, а не только из жизни. Поэтому я прекрасно вижу, что, применяя интертекстуальную технику, я так или иначе пользуюсь уже существующей, другой литературой. Иногда посредством пародии, иногда — имитации, иногда — и это у меня часто бывает — посредством приема, которым пользовались Джеймс Джойс в «Улиссе» и Т. С. Элиот в «Бесплодной земле». Речь идет о том, чтобы взять миф, хорошо известный мифический сюжет в качестве некой модели сюжета современного. Например профессора, которые в романе «Мир тесен» разъезжают по свету, соперничают между собой в борьбе за научную славу, за любовь, они разыгрывают приключения героев средневековой литературы эпохи Возрождения, например рыцарей Круглого стола в легендах о короле Артуре или у Ариосто. Приведу другой пример: «Хорошая работа», где я в некотором смысле имитирую, подражаю, ссылаюсь на романы XIX века, времен индустриальной революции, хотя на самом деле там говорится о жизни в английском промышленном городе в 80-е годы нашего столетия. Я пытался добиться следующего: встроить в роман всю ту информацию, которая необходима читателю, чтобы понять, что в нем происходит. Тут существуют разные способы. В «Хорошей работе» моя героиня читает лекцию на тему об индустриальном романе XIX века. В ней, если угодно, содержится ключ к книге. В романе «Мир тесен» есть персонаж, молодая сотрудница аэропорта, которая занимается регистрацией пассажиров. У нее возникает интерес к романтике, к романтической литературе; она — средство, с помощью которого передается идея о том, что «Мир тесен» — реконструкция средневековой романтической легенды эпохи Возрождения. По-моему, внимательному читателю этих намеков должно хватить, чтобы понять, о чем книга. Но есть, наверное, в моих романах и такие шутки, аллюзии, которые может отследить только человек с неким знанием английской литературы. Они, на мой взгляд, не являются жизненно важными для понимания книг. Главные моменты в моих книгах я не собирался делать слишком эзотерическими, доступными лишь специалистам. Но я… Из современных писателей я больше всего люблю Джеймса Джойса; я всегда считал, что, если внимательно, вдумчиво прочесть «Улисса», это уже само по себе образование. Я не сравниваю себя с Джойсом, но именно у него я почерпнул эту идею — ее, кроме того, развивает Михаил Бахтин — о том, что роман — форма многоуровневая, полифоническая. И чем богаче книга в этом отношении, тем лучше. Ведь когда начинаешь перечитывать вещь, все время находишь в ней что-то новое. Вот в этом, по моему мнению, и заключается настоящая проверка: хочется ли тебе перечитать книгу повторно, чтобы найти в ней что-то новое.