ЛЕФ 1923 № 1
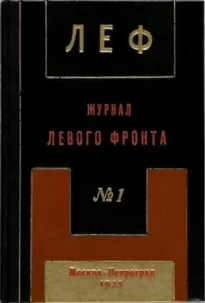
- Автор: Сборник
- Жанр: Публицистика / Поэзия
- Дата выхода: 1923
Читать книгу "ЛЕФ 1923 № 1"
Однажды, возвращаясь из Питера в свой фабричный поселок, я встретился на углу улицы с цыганкой. Она была так неожиданна и так неожиданно прекрасна, что, придя домой, я рассказал об этом Велемиру.
Он тотчас же зажегся желанием разыскать ее.
Прогуливаясь по болоту, тянущемуся от нас до Волкова кладбища, он набрел раз на цыганские шатры. Он знает – она оттуда: идемте к ней.
Мы отправляемся.
Действительно через полчаса ходьбы в разных направлениях в вечереющем поле, мы нашли цыганский табор.
Подошли к одному шатру, у огня которого люди сидели погуще. Это были исключительно женщины. Нет, они не были хорошо!.. Вскоре к шатру подошла моя красавица. Хлебников немного было разочарованный, оживился. Я говорил по-цыгански и предложил поворожить мне. – Я протянул ладонь.
Цыганка отвечала мне по-французски и вспыхнула, когда я достал керенку и бросил одному из детей: мне ее швырнули обратно. Я оглянулся на «Пуму» – он весь зрение. Он любовался цыганкой и был уже влюблен. (Влюблялся Хлебников невероятное количество раз, но никогда не любил по-настоящему). Об одной очень интересной влюбленности Хлебникова пришлось бы говорить несколько больше, – она отозвалась на его творчестве периода с 14 по 916 год, следом этой влюбленности оставалось прозвище «Пума»).
Хлебников заговорил с цыганкой по-французски, она свободно отвечала: красавица объяснила, что они французские цыгане, и что то очень путанное, как они очутились здесь.
Хлебников уже вел переговоры о том, чтобы остаться в их таборе. Он был необыкновенно изобретателен в французских комплиментах и, я думаю, никогда в жизни не извлек столько пользы от знания французского языка. Между тем я плохо понимавший этот отчасти ломанный французский разговор, объяснялся на таком же ломанном цыганском языке. Запас цыганских слов у меня обширен, но в живую цыганскую речь все же обратить его невозможно: тайна цыганской грамматики, – тайна очевидно и для них самих.
Болтая таким образом мы и не заметили, что попали в ловушку. Случайно взглянув на Хлебникова, я был поражен его неожиданной бледностью. Я оглянулся, чувствуя опасность позади нас и признаться тоже испытал неприятную минуту.
Во мраке, едва освещаемые костром, стояли пять человек мужчин с прекраснейшими черными бородами, одетые в странно перемешанные с цыганскими синими цветами европейские костюмы: У них например, были воротнички, (не первой правда свежести) манжеты и на некоторых (? О-а.?) цилиндры. Черные бороды особенно зловеще рисовались на белых жабо в малиновом отливе вечернего костра и жутко чертились контурами цилиндров на звездах (мы сидели и были ниже их, в то время как они стояли).
У каждого в руках было по странному архаическому пистолету, при чем первая и, очевидно, самая главная фигура была склонена и возилась с замком своего дикого оружия, приподняв для удобства коленку и приплясывая на одной ноге. Они были взволнованы и что-то угрожающе бормотали, сверкая белками то на нас то друг на друга.
Я знал, что малейшее резкое движение приведет к непоправимому, я тихо сказал «Пуме»:
– Сидите спокойно, постарайтесь заговорить с ними по французски.
Хлебников стал громко говорить цыганке о том, что он великий русский поэт, Велемир, и, что то, что он здесь видит, его очень удовлетворяет: он любит Францию, ее язык, нравы и рад, что встречает в добавление ко всему этому французских цыган. Он собственно думает, что они испанцы, в Испанию он собирался и тоже очень любит.
Цыган, зарядивший, наконец, свой пистолет, подошел и крутнул Хлебникова за плечо так, что тот неожиданно для себя встал.
– Пошли вон, полицейские сволочи!
И поднял пистолет.
Тут ничего не оставалось: я тоже вскочил и, схватив за руку цыгана, сказал ему: «кемаси, ромале» (любовь человек!). Эти неожиданные в моих устах, родные слова огорошили цыгана, вряд ли он понял их смысл.
О, как пригодилось нам знание стольких языков!
Мы возвращались вполне удовлетворенные романтической обстановкой. Звезды полыхали над нами нашим пережитым волнением, слишком по южному для петроградского холодного неба.
Когда мы уже отошли на расстояние полуверсты, вслед нам раздался выстрел одинокий и безуспешный…
«Что тот сулил нам мавр заката,
Цыганский табор и шатры.
Те, заряжая пистолеты
Позади женщины хитры»…
Эти четыре строчки бисерным почерком нашел я потом на валявшемся под столом лоскуточке и сейчас они живо напомнили мне эту сцену.
А вот еще один образ этой ночи затерялся где то в «морском береге».
«…Туса, туса, туса,
Мен дада цацо…
Черные улицы
Пуля цыганкой из табора
Пляшет и скачет у ног».
(В моей редакции последние строчки читались так:)
«Пума умчанкой из табора
Пляшет и скачет у ног».
Это оттуда.
Вообще произведения Хлебникова это мозаика его биографии.
Я упоминал уже об неудачном Хлебниковском выборе, когда он в первой своей революционной «трубе» великодушно дал пропуск в будущее «надгосударство звезды» Вильсону и Керенскому наравне с Тагором. Ошибка эта объяснялась главным образом тем, что Хлебников, для которого, как я ранее говорил, все пешки в игре были хороши, не разбирал из каких лоскутков сшита данная кукла. Раз ему необходимо было заполнить свой звездный трон, он брал метнувшееся перед глазами имя и вклеивал его в углу. Но за эту ошибку он, видимо, жестоко расплачивался: его мучило что эта «обез'яна» обманула его надежды.
В первую же встречу, в ту ночь когда мы шли 15 верст с загадочным видом, я как то вскольз упрекнул его, сказав о Керенском:
– Преступник.
Хлебников одобрительно мотнул головой, видимо не желая распространяться о больном, как потом оказалось, вопросе.
На другой день я заметил в своем «Временнике» бисерным почерком: «изгнать, как преступника. В. Х.», над перечеркнутой фамилией Керенского.
Позже Хлебников изобрел свое название для «Президента Республики»: «Главнонасекомствующая на солдатских шинелях». С таким титулованием он обращался к Керенскому в своих письмах и при этом называл его в женском роде, находя особое удовольствие в совпадении имен его и бывшей царицы.
Не лишено интереса следующее событие.
Шла воинская поверка.
По документу «Пума» числился: ратник второго разряда.
– Проклятая победоносная обез'яна, шептал «Пума».
Но каждый день приходил из участка человек, как будто его специальной ролью было терзать Хлебникова, и спрашивал:
– А что, отметочка имеется?
Решено были идти на Владимирский проспект. Я взял его под опеку: отправились вдвоем.
Приходим.
Велемир пред'являет свой документ: ему тридцать два года.
… – Ему еще нет сорока? Тогда он годится для революционной армии, объясняет ему золотопогонник.
– А сколько лет товарищу Керенскому? задает невиннейший вопрос Хлебников.
Ему отвечают:
– Тридцать один.
– Следовательно, сначала пойдет на военную службу товарищ Керенский. А в следующую очередь я.
На него раскрывают глаза обалдевшие золотопогонники.
– Что вы изволили сказать?!
– Я на военную службу не пойду.
В это время я сообразил, что дело кончится или очень смешным скандалом или новой царицынской пыткой для Хлебникова, поднимаю панику, говоря:
– Вы не слышите? – вонь! Где-то горит, где-то горит!
Ага, вон виден и дым!
Все устремляются к выходу и выносят в давке меня и Хлебникова. Мы сразу ставим паруса и исчезаем за поворотом в переулке. При чем наталкиваемся с разбега на генерала.
Я в форме артилерийского вольноопределяющегося, но не только не становлюсь во фронт, не только не козыряю, а сбиваю его с ног и лечу дальше.
Генерал подымается до того ошеломленный, что вопить начинает, когда мы от него на пушечный выстрел.
Я оборачиваюсь и тогда уже слишком весело становлюсь во фронт.
Это первый чуть-чуть захлестывающий берег вал утреннего прибоя. Через две недели эти валы сбивали серьезнее. Генералы переставали вопить.
– Этот пожар меня спас, – говорит наивный «Пума», когда мы садимся в трамвай.
– Только я все-таки его не видел.
Я смотрю на него.
Он начинает понимать в чем дело.
– Это вышло недурно, – одобряет он, продолжая относиться все еще лишь созерцательно, как будто речь идет не о его спасении. Я говорю ему:
– Этому надо положить конец: ведь завтра опять придут из участка поверять ваши документы.
– Да…
???
Хлебников таращит глаза в какие-то дали и, очевидно обмозговывает положение. Наконец, ему приходит в голову: Он прыскает сам от одной своей мысли, как ребенок, и коротко бросает:
– Мы устроим «высекновение».
Я сразу не понимаю в чем дело. Но больше ни слова! Конспирация! Это трамвай!
Только дома Хлебников, усевшись в свое кресло, с чехлом из украинских полотенец, которое он очень любил, посвящает нас в свои проэкты относительно «главнонасекомствующей», не оправдавшей его великодушного доверия.
Проэкты были следующие:
1) Заказать игрушечным мастерам пищащих чертиков с физиономией «главнонасекомствующей».
– Это будет очень ходовой товар! – Керенский дуется и в писке умирает!
2) Сделать чучело Керенского и с торжественной демонстрацией несть ее на руках до Марсова поля, где, положивши недалеко от братской могилы, высечь так, чтобы стоны секомого слышали павшие в феврале с его именем на устах. Это то и было «высекновение» (на манер усекновения, чтобы передать торжественность обстоятельства). Стоны должны быть исторгаемы нанятым для этого рыдальщиком или кем нибудь из «придворных сестер милосердия» или «ударниц», которым и без того захочется стонать, думая, «что она живая»! Масса подробностей. Есть даже запись проэктов.
3) И самое существенное: Был предложен следующий способ «свержения»: кто нибудь из нас (трех) отправится в Таврический дворец и, вызвав Керенского в кулуары, даст ему пощечину от всей России. Жребий не метался только из за сгустившихся опять сумерек. Стихия сама нашла себе выход. Мы были только отражателями.
Вот рассказ об этом самого Хлебникова:





