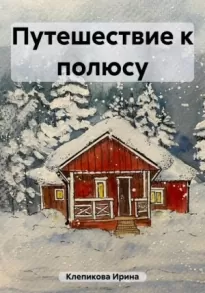Ссыльный № 33
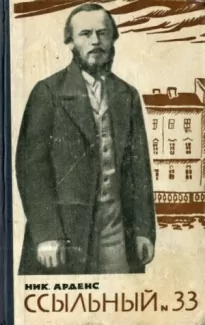
- Автор: Николай Арденс
- Жанр: Биографии и Мемуары / Историческая проза
- Дата выхода: 1967
Читать книгу "Ссыльный № 33"
И еще о беспокойстве ума Федора Михайловича
Степан Дмитрич был убежден в том, что не столько «домашние обстоятельства» послужили первейшей причиной увольнения Федора Михайловича, сколько его внутренние склонности, и что самой природой он был назначен отнюдь не в инженерное или иное какое-нибудь ведомство, а любимым его предметом изучения была «душа человека».
Уже много лет тому назад он полюбил эту человеческую душу. Еще мальчишкой, в чистые свои минуты, он прислушивался к пискливым голосам крестьянских детей и, несмотря на всю свою угрюмость и несообщительность, страстно любопытствовал, наблюдая их простодушие и невинные дурачества и всегда приникая к их делам, полный слез и тихой грусти. Да и взрослые женщины и мужчины из крепостного населения отцовских деревушек всякий раз тревожили его любопытство. И в них он подмечал свойства, которые совершенно приковывали его внимание к себе и как-то таинственно и часто неожиданно поражали его силой своих чувств, прикрытых рваными зипунами. Запомнился ему один такой мужик с мечтательной улыбкой, подоспевший как-то к нему в минуту его ребячьего испуга. Звали его странным именем Марей. Однажды в холодный, день на исходе лета маленький Федя бродил, выламывая хлысты, где-то за сельцом, среди березняка. Он очень любил собирать грибы и всяких лесных букашек. Вдруг услыхал он крик: «Волк бежит!» Он выскочил из леса и опрометью помчался по полю, не помня себя, и в эту минуту увидал лошаденку, тащившую плуг, а за ней плотного, высокого мужика. Это и был Марей. С криком: «Волк бежит!» — Федя подскочил к нему и уцепился за его зипун. А Марей мгновенно протянул к нему свои руки и стал успокаивать: «Да где там волк? Что ты? Какой тут волк? Померещилось тебе, не иначе! Какому тут волку быть?!» И погладил дрожавшего от испуга Федю своей рукой, испачканной землей, ласково провел ею по щеке его. «Ну, полно же, Христос с тобой!» — добавил он, прижимая к себе мальчишку и вглядываясь в него со своей добродушнейшей улыбкой. Так ему и заприметился на всю жизнь этот Марей.
К деревенским картинам нищеты и болезней присоединялись у Федора Михайловича в его мальчишеские годы и городские московские сцены. Видя их, он сокрушался мыслью о мизернейшем существовании многих и многих людей и маленьких ребят, с которыми сводила его повседневная жизнь. В пансионе понравилась ему одна мальчишечья душа — Алешки, судомойкиного сына из Мариинской больницы. Часами играл он с Алешкой и открывал ему все свои тайны — и как повздорил с братом, и какой карандаш нашел, и какие в пансионе пирожки через забор продают, — словом, решительно все мог доверить и обо всем извещал Алешку, расхаживая с ним, обнявшись, по палисаднику больницы. С величайшим нетерпением выкладывал скопившиеся чувства.
И с той мальчишеской поры стал Федор Михайлович любить человеческую душу. У ворот больницы он часто наблюдал приходивших людей: шли с узелками, смахивая слезы с глаз, женщины и мужчины, часто с детьми, шли навещать больных, а то и умирающих. Федя задумывался, глядя на них, и подолгу размышлял о человеческом горе. Со многими приходившими он заговаривал, а многие и с ним начинали разговор, расспрашивали, как бы повидать кого надо да передать одежонку или письмецо или варенье. И Федя даже не раз сам все разузнавал и передавал.
Так допытывался он до самой жизни — широкой и горемычной, — и детское сердце кипело уже сочувствием и нетерпением: страстно любил он помогать людям в их болезнях, а душа его изнемогала при мысли о том, что всюду одни слезы и жалобы.
— Алешка! Алешка! Не дразни его — у него мама при смерти, Васильич сказывал, — шепотом подчас твердил Федя своему приятелю, указывая на мальчишку, уныло сидевшего на скамейке у больничного подъезда.
— Умирает? — тихо переспрашивал озадаченный Алешка, пряча в карман свою рогатку и с недоуменной грустью опуская глаза.
Память Феди наполнялась чужим горем, и он начинал понимать, что жизнь должна быть непременно иной, что не надо так жить, как живут люди. А как подрос да попал в Инженерное училище, да пристрастился к Бальзаку и Шиллеру — весь ушел в мысли о тоскующем человечестве и все перебирал про себя высокие понятия: любовь, гордость, самоотвержение, счастье, страдание, жертва, терпение, — они были для него огромными словами, и их он облюбовывал в самом себе. По его расчетам любовь должна была быть всепобеждающей и неиссякаемой, гордость — незаглушаемой, а подвиг — безбоязненным до пытки, до муки, до казни, до «позорного» столба…
Федор Михайлович рано начал чувствовать людей — и так, что в иных больных находил здоровье, а у иных здоровых — болезни, но каждого он хотел узнать до конца. Каждый был ему целым миром, целым хаосом мыслей и чувств и казался тайной, которую надо было разгадывать. Каждого он считал крупицей мировой жизни и всечеловеческих порывов любви. И каждый, по его мнению, имел право на счастливые минуты жизни, взятые у вечности. Он следил за этими минутами, примечая всякое движение человека на земле и никогда не уставая смотреть на жизнь. Он полагал, что все человеческое — велико и достойно, как бы много зла ни укоренилось в измученной душе каждого отдельного человека. Он ужасно старался жить, торопился с жизнью, усиленно жил и чувствовал. И боль о человеке терзала его уже с самых юных лет. С мучительной ясностью видел он кругом себя нужду и жестокую несправедливость и медленно страдал, силясь найти невидимый смысл человеческих страданий. И ему стало казаться, что это страдание человеческое и есть необходимое искупление всей жизни. И если ты выстрадал, — значит, ты велик и оправдан. Ты маленький, бедный человек, а если ты сберег свое бедное местечко в жизни, — значит, ты велик и можешь утешиться и даже прославиться. И тебе пусть светит самое большое светило на небе, и ты, как малейшая капелька воды, хоть и ищешь себе местечко пониже, а все же право на солнышко вполне имеешь. Бедные люди тем и богаты, что они и в бедности своей не продали чувств, перенумерованных и записанных самой природой. И красив, красив бывает человек на земле!
Да и совсем недалеко надо было маленькому Феде искать красоту человеческой души. Ее он каждодневно видел в глазах родной маменьки, светившихся тихим и кротким светом, в удивительной теплоте ее сердца и в скоплявшихся тоненьких морщинках на ее лбу… Часто он подмечал, как страдала она после жестоких слов его отца, изводившего ее попреками, в которых — хоть и не до конца — мальчик пугливо чувствовал незаслуженные обиды и величайшую несправедливость… Особенно страхом и негодованием проникался он, когда отец бывал нетрезв и свирепствовал из-за каждой копейки, из-за каждого нелепого подозрения, из-за всякого пустякового домашнего изъяна. И первой жертвой его безудержного поведения бывала незабвенная маменька, вынесшая все свои унижения и оскорбления с примерной кротостью и с сознанием своей правоты и доброты.
Горе, бедность, любовь, подвиг, гордость — все это, одолённое и выстраданное, становилось святым и величественным, — так казалось Федору Михайловичу, приступившему к своему любимейшему предмету — к душе человеческой.
Но так как этот предмет представлял собою все же нечто весьма неопределенное и уж во всяком случае неосязаемое, то Федору Михайловичу и пришлось подолгу и пристально приглядываться не только к «живым», так сказать, душам, но и к воображаемым. Вот почему он с таким упоением стал вникать в Шиллера и Бальзака, а потом перешел и к физиологическим особенностям мозга. Ко всему тому вглядывание в самого себя и стремление обнаружить в самом себе какие-то «законы», касающиеся «души», были для него самонужнейшей вещью.
Когда он пришел к доктору и рассказал о своих «кондрашках», Степан Дмитрич понял: пациент был из нетерпеливых молодых людей, принявших нечто от своих родителей и растревожившихся уже не на шутку в ранние годы жизни, чрезвычайно трудной, взбудораженной честолюбивыми феериями и при этом беспорядочной. Тургенев и Белинский недаром бранили его за эту «беспорядочность». И вся эта жизнь, думалось доктору, расстилалась на фоне жесточайшей нужды и к тому же борьбы за несбыточные сокровища мира, которые будто бы должны были (непременно должны) свергнуться с неведомых вершин прямо к его ногам.
Белинский был тысячу раз прав, предполагая, что лиходейка-судьба жестоко потрясла Федора Михайловича.
Степан Дмитрич решал идти на разные жертвы — лишь бы привести своего больного к полному излечению. Всякими неотразимыми резонами он успокаивал его издрогшую совесть и волновавшийся ум.
Но лечение давалось весьма туго. Федор Михайлович был ко всему подозрительно насторожен. К Некрасову не то что охладел, а проникся недоверием и стал даже избегать его. Как-то он завидел на Итальянской улице шедшего Панаева и мигом перебежал на другую сторону.
В «высшем» же свете Федору Михайловичу и вовсе не везло. Он и сам чуждался и про себя даже брезгал всеми этими аристократишками, да и они отмахивались от новоявленной знаменитости, расписавшей до тонкости презираемых ими «бедных» людей, — чиновничков без роду и без племени… Не говоря уже о том, что Федор Михайлович в этих аристократических салонах и повернуться-то как следует не мог.
Иван Иванович Панаев, который вместе с другими по всем городским стогнам кричал: «Кланяйтесь! Кланяйтесь!», указывая на Федора Михайловича и уверяя всех, что этот народившийся гений убьет собою решительно всю литературу, услыхал от какой-то княгиньки о нетерпеливом желании лицезреть Федора Михайловича. Белокурая княгинька жеманным лепетом изъяснила любезнейшему Ивану Ивановичу:
— Покажите мне, пожалуйста, в а ш е г о Достоевского.
И вот Федор Михайлович, как кумирчик, был поднесен княгиньке. Княгинька нежно наклонила перед ним пушистые букли, пошевелила губками и уже готовилась произнести заранее выбранный из записных тетрадей комплимент, как вдруг сам кумир покачнулся и побледнел — то ли от чрезвычайного волнения, то ли от недомогания, — но так зашатался, что его вывели в другую комнату и облили одеколоном. Он очнулся, но больше уже не входил в салон.
С гораздо большим любопытством Федор Михайлович пристрастился к обедам с компанией близких людей в «Hôtel de France» на Малой Морской. Он дошел до того, что даже сам заранее иногда заказывал излюбленные блюда поварам в ресторане и сам задолго до назначенного дня выбирал вина. На обед определялось по рублю, на вина — по другому, итого по два рубля на брата, но не в этом была заключена сущность таких сходов. Веселье, н а с т о я щ е е веселье — вот что отличало их от всех прочих чванных обедов и вечеров. Эти обеды, длившиеся до поздней ночи, с чаепитием, со спичами, до которых Федор Михайлович был иной раз большим охотником и даже страстно произносил их, рассеивали дочиста весь душевный мрак. В дружеской беседе — чего только не было переговорено там! — собравшиеся изливали свой восторг жизни, который в них трепетал. Федор Михайлович, проглатывая шампанское (ему наливали всего-навсего четверть бокала, а водки он не пил и вовсе), раскрывал свою душу, насколько она могла раскрыться. Лицо его горело, и он не умолкая говорил.