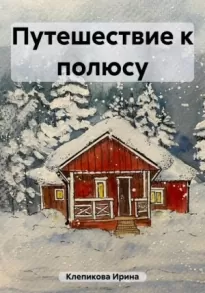Ссыльный № 33
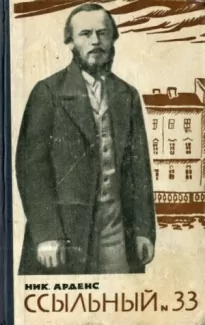
- Автор: Николай Арденс
- Жанр: Биографии и Мемуары / Историческая проза
- Дата выхода: 1967
Читать книгу "Ссыльный № 33"
На обеде у Николая Александровича
На другой день совершенно неожиданно для Николая Александровича, прямо к обеду, собрались в его квартире некоторые члены кружка, и в том числе поручик гвардии Григорьев, изысканно воспитанный в пажах молодой человек, решивший прочесть своим ближайшим друзьям написанную им статью под заглавием «Солдатская беседа».
Николай Александрович слыл радушным хозяином и после обильного и весьма затейливого обеда, принесенного прямо от Излера, перевел гостей в просторный кабинет, с кожаной мебелью.
Григорьев приступил к делу. Читал он недолго, так как вся его «Солдатская беседа» состояла из короткого рассказа одного отставного солдата Семеновского полка, бывшего сдаточного из крепостных, перетерпевшего много на своем веку и в деревне, и в солдатах, и в кандалах. Рассказ вышел хоть и не больно силен, да зато немногими словами определил все порядки николаевской солдатчины и крепостного произвола. Головинский и Львов похвалили Григорьева; Федор Михайлович же и другие как-то нерешительно промолчали, хотя, видно было, самая-то цель рассказа угодила всем.
— Старичок ваш, — лицо верное, — заметил Пальм, знаток военной муштры, внушавшей ему давнее отвращение. — Изображение таких лиц полезно и должно быть предаваемо тиснению, так как может вызвать в народе достойное отношение к царским палкам и бесчеловечному произволу помещиков.
— Совершенно правильно, — согласился Филиппов. — Наша цель, господа, выставлять напоказ жестокости времени и тем пробуждать в народе человеческое достоинство. Человек унижен, забит. Надо объяснить ему это и заставить его поднять руку против угнетателей.
— Личность у нас отодвинута на последний план, — тихо и с задумчивостью в голосе сказал Федор Михайлович, — унижена. Это правильно. Недавно все мы слыхали о палках, примененных в Финляндском полку. Фельдфебеля, вступившегося за искалеченных ротным командиром солдат, прогнали через шесть тысяч палок. Это ли не поругание личности человеческой? Человека подняли с земли мертвого.
Федор Михайлович опустил голову.
— Мы с вами, друзья, стоим у края бездны, — снова заговорил Филиппов. — Если не последует реформа со стороны правительства, крестьяне сами восстанут. А ждать, господа, освобождения со стороны правительства нет оснований: ведь там сидят те же помещики. Значит, восстание, господа, и другого исхода нет.
— Если нам суждено решать исторические вопросы, — присоединил Николай Александрович, — то не будем медлительны. Вопросы наши давно требуют конца. А какой конец может быть у нас, в России? Свержение деспотизма! На этом пути мы должны преодолеть все преграды, вплоть до того, что если придется обезглавить самодержавие, то надо поддержать и эту идею. Цареубийство может быть полезным действием, коль оно станет всенародной местью за угнетение миллионов рабов.
— Деспотизм должен быть умерщвлен! — решительно вставил Филиппов.
— И заменен правлением, которое укажет новые пути жизни народа, — добавил Головинский.
Кабинет Николая Александровича, казалось, был прямо предназначен для тайных и заговорщических собраний — так он был уединен и как-то отодвинут от шума города. Два больших окна открывали вид прямо в сад, причем в саду этом никто ни одной души никогда не видел. Одни лишь голые деревья, не успевшие еще позеленеть, стояли перед Николаем Александровичем, часто сидевшим у своего широкого, с резьбой, письменного стола, покрытого мягким синим сукном. В дорогих книжных шкафах лежали богатства прошлой мудрости человечества. Однако здесь, среди увешанных и задрапированных стен, у нарядных кресел с высокими, чопорно поднятыми спинками, и письменного стола со звенящими замочками, жизнь разыгрывалась в необычайной тревоге и нетерпении.
В такой уютной тишине расположились пылкие свободолюбцы: кто с мрачно надвинутым лбом, кто с сардонической и что-то предчувствующей улыбкой, кто с тревожным блеском в глазах и с пыхтящим чубуком.
Григорьев доказывал важность пропаганды в армии, среди солдат, которые должны открыть путь революции. Филиппов взывал к крестьянскому миру и в своих речах и прокламациях клеймил помещиков и чиновников, держащих деревни в страхе и трепете.
Николай Александрович же был в самом центре. Он считал, что восстание крестьян — один-единый путь к жизни и славе народа. Он казался самым знающим и самым могущим. В немногих словах, которые он как-то вдруг с привычной властностью и спокойствием произносил, все видели правду и только правду и восторженно принимали ее. Остальные, впрочем, выказывали не меньшую твердость и стремительность в мыслях. На лицах у всех было написано признание великих замыслов освобождения народа от гнета.
Печатный станок был почти что готов. Николай Александрович не один раз обращался к своему письменному столу со звенящими замочками и извлекал оттуда требовавшиеся суммы денег на закупки частей и материалов. Относительно пропагандировать социальных идей все было сговорено. Даже по поводу цареубийства заронилась мысль, о коей никто, кроме близких членов кружка, ничего и не знал, хотя Михаил Васильевич и догадывался о чрезвычайных планах, зревших в стенах столичного кабинета Николая Александровича.
По лицам и поведению всех собравшихся видно было, что все торопились. И вправду, разговоры были весьма спешные и решительные. Обсуждались до мельчайших подробностей европейские события, и все планы прикреплялись уже к каким-то числам, месяцам и даже городам. Впрочем, планов никто не писал, лишь Филиппов носился с чертежами Санкт-Петербурга, измазанными пылким пером, но в головах у всех кипели неудержимые намерения сокрушить произвол и вместо деспотизма основать новый строй, какой именно — об этом не прерывались горячие прения: одни говорили о республике (причем общенародной и даже общечеловеческой…), другие соглашались на конституцию, третьи ничего не ставили впереди, а полагали: надо освободить крестьянство, а там, дальше, — «посмотрим».
Но чуть приходилось смотреть на дело поближе и едва Головинский отмеривал перед всеми вопрос: «А какими средствами и с кем именно надлежит совершить величайшее историческое предприятие?» — многие приходили в недоумение… Впрочем, Николай Александрович тотчас же твердо устанавливал:
— Была бы искра, а пламя вспыхнет само собой! — Николай Александрович верил в восстание, которое должно было, чуть только столица махнет рукой, разойтись по всей России, а особенно по Уралу и Сибири.
Кое-кто осмотрительно замечал по поводу пламени:
— Вспыхнет и потухнет, коли мало будет дров. Не худо было б позаботиться насчет основательной подготовки.
Но такие отдельные голоса звучали весьма глухо и терялись в наплыве мятежных чувств.
Федор Михайлович не мог долее ждать и пребывать в бездействии. Хоть и не стремился он напролом идти к бунту и возмущению, но тем не менее был готов и к этому. Все уже знали, что на собрании у Михаила Васильевича (в бурной схватке по поводу эгоизма личности и фурьеристских идей) Федор Михайлович так именно и заявил, услыхав вопрос: «Так, значит, идти через восстание?»
— Да! Хотя бы и через восстание! — и при этом поднял руку в знак неизбежности и решенности вопроса.
Всем собравшимся, а в том числе и Николаю Александровичу, казалось, что Федор Михайлович — с н и м и и крепко держит свое слово.
Любимейший брат Михаил Михайлович порой даже пытался отвратить Федора Михайловича от чрезвычайных увлечений, но тот был упорен и повторял, что социальные идеи — явление «евангельское» и даже «апокалипсическое» и что как бы Фурье ни был далек от границ России, его планы весьма пригодны для всей будущности (именно — будущности…) человечества. В то же время по поводу идей бунта Федор Михайлович полагал, что не время противодействовать им.
Степан Дмитрич потерял надежды обратить Достоевского на путь «истинный» и всех уверял, что гениальный ипохондрик обречен перейти через некоторые черты, за коими откроются для него неизведанные дали славы и служения всему человечеству, до последней живой души.
— Беспокойный ум Федора Михайловича предвидит будущее на земле и потому так жадно черпает из источников современных идей, — предсказывал он на очередном вечере у нежнейшей Евгении Петровны, — но это не что иное, как болезнь, причем болезнь пророческая, болезнь неутоленной еще жажды исправления всего мира и, так сказать, страдальческая болезнь. Она пройдет, смею вас уверить, ибо и молодость проходит, но время еще не настало и кровь не охладела.
Испытанные чувства Степана Дмитрича были, как казалось многим, порукой в том, что Федору Михайловичу действительно предстоит испить чашу земной скорби до дна, с тем, однако, что уж после он возродится в новых потрясениях бытия.
— Docendo discimus[3], — округлял свои рассуждения Степан Дмитрич, столь искушенный в латинской словесности.
Федор Михайлович воротился домой после собрания у Спешнева в настроении рыцаря, только что, сию минуту, давшего свой обет.